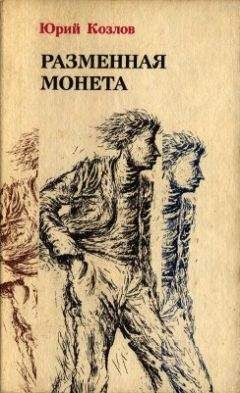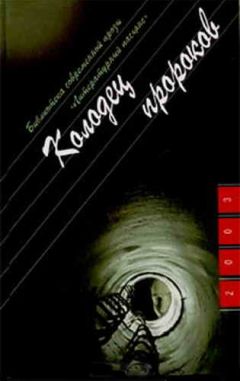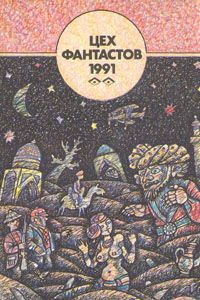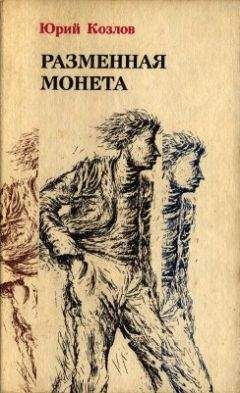Юрий Козлов - Проситель
Мехмед подумал, что излюбленное (по жизни, как говорили сейчас в России) занятие человека -- убегать от своей сути (судьбы), слоняться (по оптовым продовольственным ярмаркам?), излюбленное же занятие судьбы (сути) -- идти за человеком, как охотник за зверем, и рано или поздно настигать.
Зачем?
Чтобы воссоедиться с человеком, внести, так сказать, в вопрос окончательную ясность. Получалось, что суть-судьба воистину сродни смерти. В том смысле, что невозможно было установить опытным путем, бесконечность или, напротив, окончательную (за которую для него пути нет) конечность обретает воссоединенный с сутью человек.
Сейчас Мехмед уже мог ясно (мысленно) сформулировать: для чего, с какой целью к нему пришел человек по фамилии Исфараилов? Он пришел к нему с целью вручить -- отдать, навязать, всучить, вбить как гвоздь, вогнать как нож, влепить как пулю? -- ему его суть. Наложенным платежом, заказным письмом, под расписку, с контрольным выстрелом и так далее.
Уж кому-кому, а Мехмеду было доподлинно известно, что иногда воссоединяющаяся с человеком суть имеет обыкновение отливаться в пулю. Однако он льстил себя надеждой, что хоть его суть и не может оказаться сложнее смерти, вполне может -- сложнее банальной пули. Впрочем, Мехмеду было известно немало случаев, когда завершающая точка-пуля ставилась посреди весьма причудливых, обещающих "текстов", которые, казалось бы, еще продолжать и продолжать. И почему-то не ставилась, когда, казалось бы, скверный, непристойный "текст" следовало решительно и гневно (проткнув пером бумагу) закончить.
Гарантий, таким образом, не было никаких ни от чего. Как в случае с золотыми часами -- вечным двигателем, которые шли без механического завода под стеклянным колпаком на черном алмазном мраморе в офисе Джерри Ли Когана, но могли в любой момент остановиться без видимых причин.
Самое удивительное, Мехмед действительно не знал, что в письме. Он подумал, что, пожалуй, гипотетическому исследователю незачем "разархивировать" его размышления по поводу трусов (а может, их отсутствия) у Зои; бесконечности, от лица которой с ним говорил Джерри Ли Коган; кукурузной плантации Халилыча на берегу Ориноко; прогулок по оптовым продовольственным ярмаркам человека по фамилии Берендеев. Исследователю вполне достанет предстоящей беседы Мехмеда с Исфараиловым.
Это показалось Мехмеду несправедливым. Его личность (по крайней мере, так ему представлялось) была слишком многогранна, чтобы вместиться в какой-то единственный поступок, какое-то единственное решение. А там, вспомнилась Мехмеду первая в истории советской литературы ода Сталину, сочиненная поэтом Борисом Пастернаком, за каменной стеной, живет не человек -- поступок ростом с шар земной. Мехмеду хотелось, чтобы это было про него. Но это было не про него. Когда-то про Сталина. Сейчас, возможно, про Джерри Ли Когана.
Ему стало грустно, как и всегда, когда речь шла о капиталах, многократно превосходящих его собственные, о вещах, повлиять на которые Мехмед не мог, как бы ни хотел. Поступок, живший в коттеджном поселке за бетонной стеной, был ростом... с Мехмеда, и только с Мехмеда, то есть значительно меньше земного шара, а также Сталина и Джерри Ли Когана.
-- Прошу вас, проходите, -- приветливо пригласил Исфараилова в дом Мехмед. -- Я сегодня один, а значит, и повар, и бармен, и секретарь, и горничная в одном лице. Что предпочитаете пить в это время суток, любезный?
Мехмед с неудовольствием отметил, что почему-то думает на английском, а потом переводит на русский. Получалось как-то суетливо, нескладно, а главное, нелепо. Разве можно, находясь в России, если, конечно, ты не последний кретин, спрашивать: "Что предпочитаете пить в это время суток?" Понятие алкоголя в России не было дифференцировано, диверсифицировано, "бытовизировано" до такой степени, чтобы человек мог легко, естественно, а главное, искренне ответить, что он предпочитает пить в это время суток. Алкоголь и народ существовали в России слитно. Задавать подобный вопрос было столь же нелепо, как "каким воздухом предпочитаете дышать в это время суток?".
Мехмед с грустью подумал, что стареет. Недавно одна молодая (до тридцати) дама (Мехмед стоял вместе с ней под душем) заметила, что для своих шестидесяти без малого лет он выглядит великолепно. "Как мальчик" -- так она сказала. Мехмед, помнится, обрадовался, подбоченился, втянул живот, заиграл мускулатурой, попытался что-то такое полуакробатическое в скользкой пене у кафельной стены предпринять, а после, хватив неразбавленного (зачем?) виски, еще косо как-то и прыгнул с вышки в бассейн, больно ударившись о воду плечом.
Спустя какое-то время дама ушла.
Мехмед, ощущая боль в пояснице (зачем поднимал даму в душе?), в плече (зачем прыгал с вышки?), в хлопающем по ногам намокшем купальном халате потащился в раздевалку.
Там было зеркало.
Увидев свое отражение, Мехмед понял, что в отдельные (как правило, короткие) периоды времени можно (независимо от возраста) выглядеть очень даже неплохо, однако обмануть время невозможно. Дама назвала его мальчиком, но он был далеко не мальчиком. В шестьдесят лет можно иметь относительно гладкую кожу и густые, хоть и седые волосы. Но как быть с остальным? Невидимые внутренние органы -- сердце, печень, почки, селезенка и так далее -- старели точно так же, как и органы видимые. Они являлись сообщающимися сосудами. Пожалуй, лучше, усмехнулся про себя Мехмед, иметь крепкое, здоровое сердце и -- черт с ней! -- мятую, изборожденную морщинами физиономию. Главное же, изнашивался мозг. Именно там, в известкующихся, питающих мозг кровью сосудах пролегала главная магистраль старения, на которую человек въезжал в детской коляске и с которой скатывался в катафалке (если богат), гораздо чаще -- в простом похоронном автобусе, а иногда и в совсем простом полиэтиленовом мешке. Глядя на себя в зеркале -- морщинистого, сутулого, с петушиными какими-то, желтыми, вывернутыми ногами, синими коленями, выступившей на лице малиновой сеточкой капилляров, -- Мехмед понял, что игры со старостью смешны и неприличны. Старость неизменно (иногда для виду поддавшись) выигрывает.
Но редкому (в особенности богатому) человеку (не говоря, естественно, о женщинах) дано с достоинством проигрывать этот game. Эликсир молодости в ряду приоритетов алхимии значился вторым после философского камня, то есть денег. На третьем месте, как известно, стояло создание гомункулуса, и Мехмед прежде не понимал, зачем богатому, вечно юному человеку еще и гомункулус. Понял ближе к старости: насильственно вернувшемуся в юность не с кем общаться. Сверстники -- в гробу или на пути к гробу. Новые сверстники не интересны, потому что они, в сущности, из другого мира. Собеседником вне возраста, вне времени, вне страстей и пристрастий, следовательно, являлся этот самый бережно выращиваемый в реторте гомункулус, единственный, как выяснялось, возможный товарищ для омолодившегося старца. Товарищ, возникший из ничего, стремящийся... куда? Мехмед вспомнил, что век гомункулуса шестьсот лет, но очень хрупок этот век. Достаточно ему хотя бы раз в полнолуние не отведать свежих персиков, и... Мехмед подумал, что гораздо сподручнее размещать гомункулусов в компьютерах. Там, в Интернете, они смогут удовлетворить свою бесконечную страсть к знаниям.