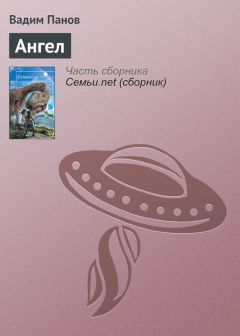Шелли Мэрри - Франкенштейн, или Современный Прометей. Последний человек.
Я заметил, что, когда я напомнил моей сестре о ее долге в жизни, она уже не слушала меня с прежним терпением. Она, как видно, подозревала, что я стараюсь утешить ее, и восставала против этого, лелея свое новорожденное горе.
- Ты говоришь о будущем, - сказала она, - а для меня сейчас все в настоящем. Дай мне найти земную оболочку моего любимого; спасем ее от братской могилы, чтобы в будущие времена люди могли указывать на священное надгробие и называть его; а тогда уж обратимся к другим заботам и к новой жизни или к тому, что еще судьба, этот жестокий тиран, готовит мне.
После краткого отдыха я приготовился покинуть Пердиту, чтобы постараться выполнить ее желание. Тут вышла к нам Клара; ее бледное лицо и испуганный взгляд показывали, как глубоко потрясена горем ее юная душа.
Казалось, она была полна чем-то, чего не могла выразить словами. Пользуясь минутой, когда Пердита вышла, она обратилась ко мне, умоляя показать ей ворота, через которые ее отец въехал в Константинополь. Она обещала не совершать никакого безрассудства, быть послушной и немедленно вернуться обратно. Я не мог отказать, ибо Клара не была обыкновенным ребенком; ее ум и чувствительность, казалось, наделяли ее правами женщины. Посадив Клару на коня впереди себя, в сопровождении только одного слуги, который должен был отвезти ее обратно, я направился к Топ Капу. Возле ворот собралось несколько солдат. Они к чему-то прислушивались.
- Это стонет человек, - сказал один из них.
Том И. Глава третья
295
- Нет, похоже больше на вой собаки, - заметил другой. И они снова стали вслушиваться в отдаленные стоны, доносившиеся из разрушенного города.
- Вот, Клара, - сказал я, - ворота и улица, по которой вчера утром проехал твой отец.
Каковы бы ни были намерения Клары, когда она попросила привезти ее сюда, ей, видимо, помешало присутствие солдат. Она печально посмотрела на дымившуюся груду, которая недавно была городом, и изъявила готовность вернуться домой. Но в этот миг до нас донесся жалобный вой; вскоре он повторился.
- Слушайте! - воскликнула Клара. - Он там, это Флорио, собака моего отца!
Мне не верилось, что она могла узнать ее по голосу, но Клара настаивала, и солдаты поверили ей. Во всяком случае, предстояло доброе дело - спасти страдавшее существо, будь то человек или животное. Отправив Клару домой, я снова вошел в город. Ободренные тем, что я уже побывал там и вернулся невредимым, несколько солдат, бывших телохранителей Раймонда, которые любили его и искренне оплакивали, отправились вместе со мной.
Трудно представить себе странное стечение обстоятельств, вернувших нам безжизненное тело моего друга. В той части города, где прошлой ночью более всего свирепствовал пожар, а теперь все было холодно и черно, издыхавший пес Раймонда лежал подле изуродованного тела своего хозяина. В такие минуты скорбь безмолвна; сама сила ее налагает на уста печать. Бедное животное узнало меня, лизнуло мне руку, подползло ближе к своему господину и осталось недвижимым. Раймонд был, очевидно, сброшен с коня падавшим обломком, который проломил ему голову и изуродовал его внешность. Я склонился над ним и взял в руки край его плаща, изменившегося менее, чем тело, которое он облекал. Я прижимал край плаща к губам; грубые солдаты, собравшись вокруг, печалились над драгоценной добычей смерти, словно сожаления могли снова возжечь угасшую искру или вернуть освободившийся дух в разрушенную темницу плоти. Вчера еще это тело стоило целой вселенной; тогда оно носило в себе замыслы, действия и слова, достойные быть записанными золотыми буквами. Сейчас только любящие могли придавать какую-либо цену сломанному механизму, не более похожему на Раймонда, чем выпавший дождь на облако, воспарявшее в небеса, позолоченное солнцем, привлекавшее взоры и пленявшее их несравненной красотой.
Таким, каков он стал теперь, какой сделалась его смертная оболочка, обезображенная и разбитая, мы обернули его нашими плащами и на руках вынесли из города мертвых. Стали думать, куда положить Раймонда. Наш путь к двор цу пролегал через греческое кладбище; здесь, на плите из черного мрамора, я и велел это сделать; над нашим другом высились кипарисы; их мертвенная зе296 Последний человек лень соответствовала небытию, в котором он пребывал. Мы срезали ветки с этих траурных деревьев, обложили ими тело и на них положили его меч. Я оставил стража возле этого сокровища из праха и приказал, чтобы вокруг не угасая горели факелы.
Когда я возвратился к Пердите, оказалось, что она уже извещена об успехе наших поисков. Ее любимый, единственный и вечный предмет ее страсти и нежности, возвращен ей! Этими безумными словами выражала она свою радость. Пусть он недвижим, пусть уста его не произносят более слов мудрости и любви. Пусть, словно водоросль, выброшенная морем, он станет добычей тления. Все же это тело, которое она ласкала, уста, которые сливались с ее устами и пили вместе с дыханием самую душу любви, то бренное тело, которое она называла своим. Правда, она предвкушала будущую жизнь; дух любви виделся ей неугасимым и вечным. Но сейчас со всей силой земной любви она цеплялась за то, что своими земными чувствами способна была воспринять как часть ее Раймонда.
Бледная как мрамор, она выслушала мой рассказ и спросила, куда мы положили тело. Черты ее уже не искажало отчаяние, глаза были ясными, и вся она словно выпрямилась; но необычайная бледность, почти прозрачность ее кожи и глухо звучавший голос указывали, что за внешним спокойствием таится крайнее возбуждение. Я спросил, где она желает похоронить его.
- В Афинах, - ответила она. - В Афинах, которые он любил. За городом, на склоне горы Гиметт159 есть скалистая ниша, на которую он указывал мне, говоря, что здесь хотел бы покоиться.
Моим желанием, разумеется, было не уносить его с места, где он теперь лежал. Но приходилось подчиниться ее решению, и я стал упрашивать Пердиту не медлить с отъездом.
И вот печальный кортеж движется равнинами Фракии, проходит ущельями гористой Македонии, идет вдоль Пенея160, пересекает равнину Лариссы161, минует Фермопилы162, подымается на Эту163 и на Парнас164, чтобы спуститься в плодородную долину вблизи Афин. Женщины с покорностью сносят долгие мучения, но для мужского нетерпения медленное движение нашей кавалькады, печальные привалы в полдень, вид гробового покрова, как бы роскошен он ни был, скрывавшего резной гроб с останками Раймонда, монотонное чередование дня и ночи и все обстоятельства сей поездки были невыносимы. Пердита, уйдя в себя, говорила очень мало. Она ехала в закрытой карете; когда мы останавливались, она сидела, опершись бледной щекой на холодную, бледную руку. Сестра моя предавалась своим мыслям, не делясь ими и не ища сочувствия.