Илья Варшавский - Тревожных симптомов нет (сборник)
Однако Лукомский с Дирантовичем проявили такую настойчивость, оказали такой нажим во всевозможных инстанциях, что в конце концов Пральников был зачислен студентом.
Учился Пральников хорошо, но без всякого блеска, и как студент никакими выдающимися качествами не обладал.
Срыв произошел уже на пятом курсе, когда он вдруг заявил о своем намерении перейти на биологический факультет.
Лена Сабурова
Мы дружили с Андреем Пральниковым. Иногда мне казалось, что это больше, чем дружба. Видимо, я ошибалась.
Вначале он не привлекал моего внимания–может быть, потому, что он был самым молодым на нашем курсе. Такой рыжий паренек с веснушками. Держался всегда особняком, приятелей не заводил.
У нас говорили, что это сын знаменитого академика, что в детстве у него подозревали какие–то удивительные способности, нанимали специальных учителей, однако надежд он как будто не оправдал.
Наше настоящее знакомство состоялось уже на четвертом курсе. Как–то после лекций он подошел ко мне в коридоре, страшно смущенный, комкая в руках какую–то бумажку, сказал, что у него совершенно случайно есть лишний билет в кино и что, если я не возражаю…
Я не возражала.
В кино он сидел нахохлившись, как воробей, но в конце сеанса взял меня за руку, а провожая домой, даже пытался поцеловать. Я сказала, что не обязательно выполнять всю намеченную программу сразу. Он удивительно покорно согласился и ушел.
Спустя несколько дней он спросил меня, не собираюсь ли я в воскресенье на лыжах за город. Я собиралась.
Мы провели этот день вместе и с тех пор начали встречаться очень часто.
Как–то я взяла два билета на органный концерт, один себе, другой для него. Когда я ему об этом сказала, он поморщился и процедил сквозь зубы:
— Ладно, если тебе это доставит удовольствие.
Я обиделась, наговорила ему много лишнего, и мы чуть не поссорились. Впрочем, на концерт пошли.
Минут десять он ерзал в кресле, сморкался, кашлял — словом, мешал слушать не только мне, но и всем окружающим. Затем вдруг вскочил и направился к выходу. Не понимая, в чем дело, я побежала за ним.
Вот тут–то, в фойе, и разыгралась наша первая ссора.
Он орал так, что прибежала билетерша.
— Не смей меня больше сюда таскать! Это не искусство, это… это… черт знает что!
Я довольно спокойно сказала, что для того, чтобы понимать классическую музыку, нужна большая внутренняя культура, которую невозможно развить в себе без того, чтобы… и так далее.
Куда там!
— Культура?! — орал он пуще прежнего. — Посмотри в кино, к&к дикари слушают Баха. А кобры? У них что, тоже культура?
Чужая злость всегда заразительна. Всякий крик меня обычно выводит из равновесия.
— Не понимаю, чего ты хочешь?! Чем тебе плоха музыка?
— А тем, что это примитивное физиологическое воздействие на эмоции, в обход разума.
— Да, если разум находится в зачаточном состоянии!
— В каком бы состоянии он ни находился! А если я не желаю постороннего вмешательства в свои эмоции?! Понимаешь не желаю!
— Ну и сиди дома! Тебе это больше подходит.
— Конечно! Уж лучше электроды в мозг или опиум. Там хоть сам можешь как–то генерировать свои эмоции.
Я обозвала его щенком, которому безразлично, на что лаять, и ушла в зал. Он принес мне номерок на пальто и отправился домой.
На следующий день он подошел ко мне в перерыве между лекциями и извинился.
С ним было нелегко, но наши отношения постепенно все же налаживались. Мы часто гуляли, много разговаривали. Мне нравилась парадоксальность его суждений, хотя я понимала, что в 19 лет многие мальчишки разыгрывают из себя этаких Базаровых.
Летом мы не виделись. Я уехала к тете на юг, он жил где–то под Москвой.
Осенью при первой нашей встрече меня поразила странная перемена в нем. Он был какой–то пришибленный. Мы сидели в маленьком скверике на Чистых прудах. Молчали. Вдруг он начал мне читать стихи, сказал, что написал их сам. Стихи были плохие, и я прямо заявила ему об этом.
Он усмехнулся и закурил.
— Странно! А я был уверен, что ты сразу признаешь во мне гения.
Мне почему–то захотелось его позлить, и я сказала, что такие стихи может писать даже электронная машина.
Он было понес очередную ахинею о том, что в наше время найдены эстетический и формальный алгоритмы стихосложения, поэтому почему бы машине и не писать стихи, что вообще стихи — сплошная чушь, одни декларации чувств, что в рассказе хорошего писателя куда больше мыслей, чем в целом томе стихов, но сбился и неожиданно спросил:
— А как ты думаешь, что такое гений?
Я ответила что–то очень шаблонное насчет пяти процентов гения и девяноста пяти процентов потения. Он обозлился.
— Я серьезно спрашиваю! Мне нужны не педагогические наставления, а точная формулировка.
Я задумалась и сказала, что, вероятно, отличительная черта гения — чувство ответственности перед людьми и, главное, перед самим собой за свое дарование.
Он обломил с куста прутик и долго рисовал им что–то на реске. Потом поднял голову и внимательно посмотрел мне в глаза.
— Может быть, ты и права. Кстати, мне нужно было тебе сказать, что я уезжаю.
— Куда это?
— В пустыню. Думать о своей душе или об этом… как его? Чувстве ответственности.
— Надолго?
— Не знаю.
— А как же университет?
— Подождет. Потом разберемся. Ну, пойдем, провожу тебя домой. В последний раз.
Он действительно уехал. На две недели, без разрешения деканата, а когда вернулся, началась эта ерунда с переводом на биофак. Конечно, никакого перевода ему не разрешили, но крику было много. Говорят, сам Дирантович занимался этим делом. Он у него кем–то вроде опекуна.
С того вечера на Чистых прудах в наших отношениях что–то оборвалось. Не знаю почему, но чувствую, что окончательно.
ФАНТАСТИКА ВТОРГАЕТСЯ В ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА ДЕБРЭ
1. Хмурое утро
Комиссар Дебрэ проснулся в 9 часов. Впрочем, «проснулся» не то слово.
Если вы до трех часов ночи занимались тем, что бесплодно обшаривали огромный особняк в поисках спрятанной кем–то бомбы с часовым механизмом, если после этого вас терзал жестокий приступ язвы желудка и вам вкатили изрядную дозу наркотика, то правильнее было бы сказать, что вы очухались или в крайнем случае продрали глаза.
Дебрэ надавил пальцами на живот. Притаившаяся было боль снова рванула когтями желудок. Вот она, награда за сорок лет работы в уголовной полиции. Тут все: и бессонные ночи, и съеденные наспех сандвичи сомнительной свежести, и бесконечное количество выкуренных трубок в поисках разгадки очередной головоломки. К сожалению, подорвано не только здоровье, но нечто более существенное — вера в человека. Газеты, захлебываясь, превозносят знаменитый метод комиссара Дебрэ. А если разобраться, что, собственно, представляет этот пресловутый метод? Не что иное, как знание человеческих слабостей и страстишек. Уж кому–кому, а Дебрэ известно, что огромное количество преступлений совершается по совсем пустяковым поводам. Уязвленное самолюбие, зависть, ревность. Странный парадокс: чем сложнее преступление, тем примитивнее его причины. Полицейский комиссар должен быть прежде всего психологом, и тогда становится ясным многое. В искусстве раскрытия преступлений не существует мелочей. Очевидная версия — далеко не всегда самая правильная. Понять характер преступника, уметь вжиться в его психологию, почувствовать подсознательные мотивы преступления удается далеко не каждому, однако если вы овладели этим методом, успех обеспечен. Но какой ценой дается этот успех? Решение психологических этюдов требует максимального напряжения всех духовных сил, а за это тоже приходится расплачиваться. Рано или поздно вы чувствуете себя совершенно опустошенным, а люди, которые вас окружают…
Дебрэ взял с ночного столика трубку и протянул руку в поисках коробки с табаком. Ее не оказалось на привычном месте, и тут он вспомнил все, что было ночью. Как он корчился в кровати от боли и как перепуганная насмерть жена вызвала по телефону доктора Малинду. Конечно, чушь вызывать в таких случаях полицейского врача, специалиста по судебно–медицинской экспертизе, но мадам Дебрэ уверена, что Малинда — лучший из врачей Парижа. Может быть, оно и так, но было бы спокойнее, если б приехал не Малинда, а кто–нибудь другой. Тогда бы удалось обойти вопрос о курении. С Малиндой это не прошло. «Отныне ни одной затяжки, вы слышите, мадам Дебрэ? Это на вашей совести. Весь табак — немедленно в мусоропровод!»
Дебрэ встал и босиком, чтобы не привлечь внимания жены, прошел в переднюю. Он пошарил в карманах пальто. Тщетная надежда! Кисет с табаком исчез и оттуда.
Дебрэ тихонько выругался и, посасывая пустую трубку, снова улегся в постель. «Ну его все к дьяволу! — подумал он. — Сегодня же подаю прошение об отставке. В конце концов, жизнь на пенсии тоже имеет свои прелести». Он представил себе маленький домик на берегу Луары, который они с женой давно уже облюбовали для покупки. Жить подальше от Парижа, удить рыбу и читать детективные романы. Спать до десяти часов, вечером смотреть передачи по телевизору. Совсем неплохо. Можно еще разводить шампиньоны. Итак, решено! Прошение будет вручено сегодня. Откладывать не имеет смысла, тем более что дело с бомбой в особняке Костагенов, видимо, просто дурацкая мистификация.

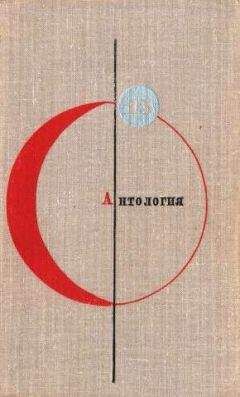
![Илья Варшавский - Сборник [СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)

