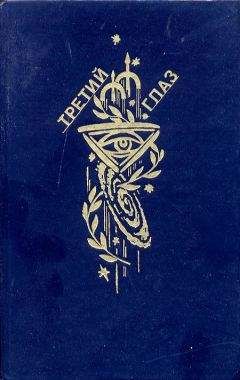Аркадий Стругацкий - Том 12. Дополнительный
Однако времена уже были не те — замолчать Стругацких не удалось, подорвать читательскую любовь к ним тоже. В отличие от Булгакова авторам удалось дожить до того дня, когда та же гонимая некогда «Сказка...» была напечатана — в молодежном журнале с полуторамиллионным тиражом. (Тираж «Ангары», между прочим, был всего 3000 экземпляров.) А вот дожить до выхода хотя бы первого тома собрания сочинений у себя на родине Аркадию Стругацкому не довелось.
К моему сожалению, в 80-х годах, когда с выходом каждой их книги я все больше и больше убеждался, какое это незаурядное явление в русской культуре — братья Стругацкие, мы стали встречаться реже. С легкой руки моей, тоже покойной уже жены, кстати, постоянного и пробивного редактора их сочинений в журнале «Знание — сила», где Стругацких печатали даже в те годы, когда их не печатали больше нигде (я до сих пор не могу понять, как это знаньевцам удалось тогда опубликовать «Миллиард лет до конца света»), мы с ней не только заочно, но и непосредственно стали называть Аркадия классиком. Он охотно откликался. Должно быть, понимал, что мы не шутим.
Но работали братья так же напряженно, а здоровье Аркадия становилось все хуже, хотя он по-прежнему вскидывался, как только до него доходили слухи об очередной пакости, которую затевали против них и фантастики в целом два комитета — Госкино и Госкомиздат. Объяснить их действия — даже по меркам того времени — невозможно. Почему, например, не был разрешен к постановке идеологически безупречный, антимилитаристский «Парень из преисподней»? Почему «Трудно быть богом» было отдано на откуп западногерманскому режиссеру? (Хотя я и не согласен с Борисом, считающим работу П.Флейшмана неудачной.) Только потому, что его авторами были Стругацкие... Точно так же можно спрашивать: почему Евтушенко не позволили сыграть роль Сирано де Бержерака, почему Шукшину запретили поставить «Степана Разина», почему много лет лежал на полке «Андрей Рублев» Тарковского... Ну, не любило Госкино слишком самостоятельных художников...
С Госкомиздатом дела обстояли проще — там прежде всего дело было в конкуренции, а работники комитета сами хотели иметь навар с изданий. Так как бумаги в эпоху всеобщего дефицита постоянно не хватало (а сейчас оказалось, что в стране ее сколько угодно), то главная редакция художественной литературы без всякой колебаний отдавала предпочтение очередному собранию сочинений Казанцева и другим духовным единомышленникам. А Стругацкие так и не дождались своего собрания сочинений, пока не появились частные издательства, хотя даже в Америке вышел их двенадцатитомник.
Мы иногда отводили душу на тусовках в Союзе писателей, где у Аркадия было немало сторонников, а противники, напротив, побаивались приходить, скажем, на заседания Совета по фантастике. Там мы могли отважно принимать грозные реляции, например, о немедленном изменении редколлегии 25-томной «Библиотеки всемирной фантастики». Но это были пирровы победы, потому что в конечном счете решения принимались в том же Госкомиздате и в кабинетах тогдашних секретарей Союза, большинство которых состояло из старых маразматиков-графоманов, с таким блеском — без всякой фантастики — изображенных в «Хромой судьбе». Вот тут пальму первенства, видимо, действительно надо отдать Аркадию: в Ленинграде таких монстров, мне кажется, не было. А может, я и ошибаюсь...
Против них стеной стояла вся государственная и партийная махина. Но все-таки они победили. Несмотря на все препоны. Любой писатель может только мечтать о таком читательском успехе. И даже в кино, хоть один раз, но им все-таки повезло. По их сценарию был поставлен «Сталкер», на мой взгляд, лучший фантастический фильм всех времен и народов. С ним даже нечего сравнить. (И здесь я опять не согласен с оценкой этого фильма ни Станиславом Лемом, ни Борисом Стругацким. Я не вижу в нем ничего мистического, зато там очень много выстраданного и человеческого.) И хотя автором этого гениального фильма (помнится, Аркадий тоже так называл и фильм, и режиссера) справедливо считается Андрей Тарковский, но когда я слышу с экрана отчаянные монологи героев, то отчетливо различаю хорошо мне знакомые интонации Бориса и Аркадия.
Пока мы живем, мы непростительно мало думаем о том, какой в сущности короткий срок отпущен нам на общение с друзьями и как бездарно мы его растрачиваем. Однажды, может быть, не в самую веселую минуту, Аркадий сказал мне: «Севка, ты не приходи на мои похороны. И не обижайся, если я не приду на твои, если ты вдруг рухнешь с дуба раньше меня. Только это маловероятно. Я все-таки постарше тебя, да и сердечко пошаливает. Вот мы сейчас сидим за рюмахой, и нам хорошо. А прочувственные речи, венки, панихиды — это не по мне. Помнить — помни, а остальное мне не нужно...»
Прости меня, Аркадий, эту твою волю я не выполнил. Я был на твоих похоронах, и плакал у твоего гроба, потому что это единственное утешение для оставшихся в живых. Как плачу и сейчас, дописывая эти строки, потому что я уже стал старше тебя, как давно уже стал намного старше моих сверстников, моих добрых знакомых — Тоника Эйдельмана, Юры Казакова, Димы Биленкина, Роберта Рождественского, Юры Ханютина... Но я вовсе не собирался доживать свою жизнь без них...
Теоретически я отлично понимаю, что в настоящих мемуарах полагалось бы дать духовный портрет покойного, описать его внутренний мир, его беспокойный и бесконечно добрый характер... В романе «Волны гасят ветер» авторы вспоминают любимого героя своих ранних повестей Леонида Горбовского, который всегда придерживался такой морали: «Из всех возможных решений выбирай самое доброе». Не самое обещающее, не самое рациональное, не самое прогрессивное и, уж конечно, не самое эффективное — самое доброе! Он никогда не говорил этих слов, и очень ехидно прохаживался насчет тех своих биографов, которые приписывали ему эти слова, и он наверняка не думал этими словами, однако вся суть его жизни — именно в этих словах». Это про тебя, Аркадий...
Но, как мне представляется, с психологией не справляются многие признанные писатели. Какой же спрос с критика...
Мариан ТКАЧЕВ
Об Аркадии Натановиче Стругацком
Я — человек, выросший в Одессе, где встречают, принимают и провожают по одежке, изумился, увидав человека, который, имея на своем теле ковбойку и заурядные отечественные брюки, выглядел по-дворянски. Точно такое же впечатление произвел он и в не Бог весть каких джинсах, трикотажной рубашке цвета хаки и куцей непромокаемой куртке, окраской напоминавшей только что вылупившегося цыпленка (тут я, правда, вспомнил, на Дальнем Востоке желтый цвет — императорский).