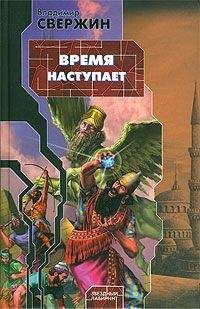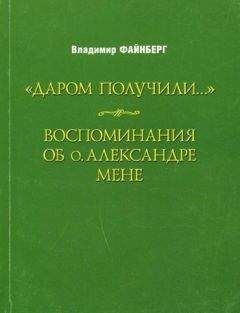Андрей Валентинов - Тирмен
«Песня про снайпера, который через пятнадцать лет после войны спился и сидит в ресторане». Дядя Петя, случалось, когда скучал в каморке, включал старенький магнитофон и крутил кассету Высоцкого, всегда одну и ту же.
Названия песен, указанные на вкладыше, Данька выучил наизусть.
Возле остановки маршрутного микроавтобуса, у выхода со двора жилого дома, стояли двое. Мужчина и женщина, возраста Данькиных родителей. Мужчина виновато улыбался, словно только что пришел издалека, не вовремя, невпопад, и сейчас не знал, что сказать по этому поводу. Женщина обеими руками держала его за щеки – бережно, с робостью, как держат хрупкую, однажды сломавшуюся и потом склеенную ценность – и вглядывалась в лицо, надеясь высмотреть там ответ на вопрос, известный только ей.
Оба молчали.
Для них не существовало ничего, кроме возвращения и немого вопроса.
Стоя в автобусе и держась за ременную петлю, Данька всю дорогу вспоминал эту странную пару. Представлял себя с Леркой на их месте. Интересно, что должно произойти, чтобы мечта Конана-варвара вот так смотрела на него? Да, в сущности, ничего особенного: вернется мечта от надоедливой Дарьи Тютюнец, спросит, купил ли муж хлеб и бананы, начнет счастливо ворчать, что вечно он лезет, а у нее живот, который надо беречь…
На углу он взял батон «Слобожанский» и гроздь бананов.
Вдоль всей улицы мальчишки жгли тополиный пух. Костры сопровождали Даньку от угла до дома, где жили родители, сменяв с доплатой две двухкомнатные малогабаритки на одну четырехкомнатную – большую, с парой санузлов, в том же самом подъезде, на последнем этаже. Мама сейчас на работе, отец тоже…
Пройдя под аркой, он свернул во двор, намереваясь срезать дорогу.
Во дворе профессор Линько выгуливал Джека.
Гуляя без поводка, пес тем не менее никуда не отходил от хозяина, гордо задрав лобастую голову и стараясь держаться у правого бедра профессора. Словно исполнял неслышную для других команду «Рядом!». Джек весь лучился сознанием выполненного долга. Вот, значит, ждал. Честно, как положено. И дождался. Теперь гуляем. Теперь все будет в порядке.
Из окна профессорской квартиры за ними следила дочь Линько. На ее обрюзгшем, щекастом лице читался ужас.
– Доброе утро, Игорь Осипович, – поздоровался Данька.
Профессор подслеповато сощурился:
– А-а, Данечка? Доброе утро. С ночной смены?
– Ага. Со смены.
– А я, как видите… – Рука Игоря Осиповича легла на холку овчарки, потрепала с нежностью, которую трудно было предположить в черством сухаре-кляузнике. – Вот, гуляю. Погода сегодня замечательная…
Он задрал голову и уставился близорукими глазами в окно, где окаменела его дочь.
Зябко повел плечами, как если бы строгий черный костюм, новенький, с иголочки, оказался ему тесен.
– Как вы думаете, Данечка… Наверное, в таких случаях завещание теряет силу?
– Не знаю, – честно ответил Данька. – Должно терять.
– У вас нет хорошего юриста? Ох, извините! Вы, наверное, устали. Отдыхайте. Не буду вас задерживать. Организм, он ведь не железный. Джек, ко мне!
Пес, решив во время разговора обнюхать заборчик вокруг детской площадки, со всех четырех лап кинулся к хозяину.
– До свиданья, Игорь Осипович!
– И вам всего доброго…
Вернувшись домой, Данька оставил хлеб и бананы на кухне. Еще раз перезвонил Лерке, доложившись о покупках. После минутного разговора о пустяках спрятал мобильник в карман, покинул квартиру, запер дверь и отправился в парк.
Пешком.
Вокруг одинокого, задумчивого пешехода мало-помалу закипал весенний город, будто котелок с водой, под которым исподтишка разожгли огонь.
Город хотел знать, что происходит.
Город не понимал, радоваться ему или ужасаться. Город терялся в догадках, что надо делать: встречать заветных гостей или запирать двери на все запоры? Город хватал за грудки испуганных мудрецов и требовал ответа: рухнуло царство или восстало из пепла? Что за послание чертит в душистом майском воздухе рука-невидимка?!
…тополиным пухом на сером асфальте.
…серебром облаков на синем небе.
…мелом на крипичной стене.
Но мудрецы, сколько ни бились, не могли разобрать смысл таинственных букв. Одни мальчишки, ни о чем не задумываясь, жгли пуховые сугробы, и огонь смеялся над потугами глупых мудрецов.
* * *Он сидел на пороге открытого тира.
Близился вечер. Вдоль аллеи загорались фонари на высоких столбах. Жирные голуби, не спеша отправиться спать, ссорились с пронырами-воробьями из-за хлеба насущного. В киосках торговали пивом, соком и шоколадками, но торговля шла плохо: людей в парке практически не было. Голуби, воробьи, продавцы шоколадок и молчаливый парень на пороге тира.
Звонила Лерка.
Он сказал, что задерживается.
На работе? Да, на работе. Как обычно.
Да, я тебя тоже люблю.
– Привет, тирмен.
Старик лет семидесяти. Гладко выбритый, подтянутый, с военной выправкой. Ладно пригнанная шинель без погон, офицерская фуражка и щегольские, надраенные до огненного блеска сапоги. На груди – орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги» и «50 лет Вооруженных Сил СССР», рядом – йеменский «Орден Мариба». Четыре награды, и все.
Узнать Адмирала Канариса было трудно.
– Здравствуйте.
– Ждешь?
– Жду.
– Я с тобой посижу, ладно?
– Сидите, – пожал он плечами.
От Андрея Ивановича Канари, бывшего старшины, бывшего тирмена и бывшего безумца, пахло табаком и одеколоном.
Уже стемнело, когда на аллее показалась знакомая фигура. Человек шел от памятника, открывающего вход в парк, к тиру. Парусиновый пиджак, кепка-«аэродром», в руках – кулек с семечками. Человек не торопился. Теперь можно было никуда не спешить.
Данька не знал, что он скажет человеку, когда тот приблизится.
Спросит? О чем?
И захочет ли дядя Петя ответить…
В глубине тира Карлсон что-то радостно шептал капризной жирафе, и вертелась, словно в нее угодила пулька, верная карусель.
Июль 2004 – январь 2006 гг.Харьков—Иерусалим—Киев—Прага—Харьков.Послесловие
Генри Лайон Олди
Вечные песни о главном, или Фанты для фэна
(семинар молодых авторов на «Звездном Мосту-2005»[7])
«…По правде сказать, я испытываю весьма мало уважения к дорогой публике, которую обречен ублажать, как ханжа Трэш в «Варфоломеевской ярмарке», трещотками и имбирными пряниками, и я был бы весьма неискренен перед теми, кому, быть может, случится прочесть мои признания, если бы написал, что публика, на мой взгляд, заслуживает внимания или что она способна оценить утонченные красоты произведения. Она взвешивает достоинства и недостатки фунтами. У тебя хорошая репутация – можешь писать любой вздор. У тебя плохая репутация – можешь писать как Гомер, ты все равно не понравишься ни одному читателю. Я, пожалуй, ребенок, испорченный успехом, но я прикован к столбу и должен волей-неволей стоять до конца…»