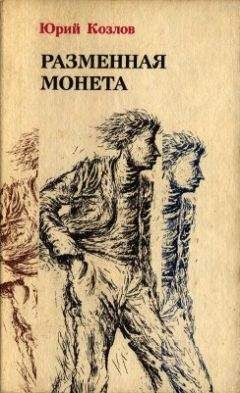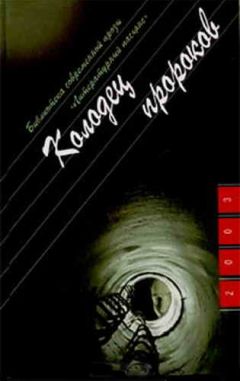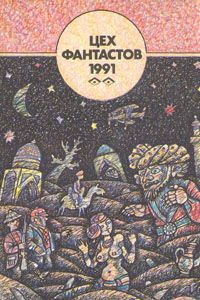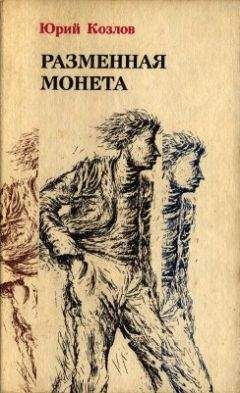Юрий Козлов - Проситель
Какое-то ему здесь виделось неразрешимое (фундаментальное) противоречие. Он вспоминал о древних языческих верованиях, в которых не было разделения на "божественное" и "остальное".
Подвиг Христа, следовательно, по Мехмеду, заключался в попытке приведения "божественного" и "остального" к подобию, к единому, так сказать, знаменателю. Но "остальное", как ни кощунственно было об этом помыслить, представлялось шире "божественного". К исходу двадцатого века (это было совершенно очевидно Мехмеду) "остальное" налилось таким неподъемным природным и электронным (телевизионно-компьютерным) свинцом, что задним числом или явочным порядком тянуло, уравнивало, подверстывало и переверстывало под себя "божественное". Мир смещался в до- (пост-) христианские времена, и Мехмед доподлинно не знал, хорошо это или плохо.
Иногда он ловил себя на том, что готов принять мир целиком (без разделения на добро и зло) и совершенно не готов делить мир на "божественное" и "остальное". Это было все равно что попытаться разделить имеющиеся у него деньги на честные и нечестные. Честные и нечестные деньги, смешиваясь на счетах, превращались в цифры. Цифры же не могли быть честными или нечестными. Цифры могли быть только цифрами.
Но ведь и мир Божий, вдруг подумал Мехмед, в сущности, тоже цифры. Что останется после Страшного суда, кроме двух чисел: числа праведников и числа грешников? Наверное, догадался Мехмед, останется некий математически выверенный закон. Вот только, убей Бог, непонятно было, кому и что докажет этот закон, если под существованием Homo sapiens, как в свое время под существованием динозавров, будет подведена черта. Впрочем, Мехмед отдавал себе отчет, что он не в состоянии во всей полноте постичь мысль Божию. Математический реализм представал столь же неуловимым, как все прочие реализмы: социалистический, магический, мистический и так далее.
Как бы там ни было, пока Мехмед был свободен от веры, взгляд его летел в любые пределы, не встречая преград. С одной стороны, это упрощало, а с другой -- усложняло предстоящий поединок (Мехмед не сомневался, что предстоит поединок) с существом, выходящим из синего "вольво" у бронированных ворот коттеджного поселка.
Если конечная цель благоприятствовала исполнению того или иного конкретного обещания -- Исфараил его исполнял, если нет -- не исполнял. Это был в высшей степени равнодушный, чуждый человеческих (как и положено использующему их в своих интересах) страстей джинн. Он напоминал торговца наркотиками, ведущего, в отличие от своих "подопечных", здоровый, спортивный образ жизни. Бегает по утрам, "качается" в гимнастическом зале. Под кожей у Исфараила, если верить сказкам, вместо костей и мышц был волшебный, не тающий на любой жаре лед, против которого были бессильны копья, стрелы и, надо думать, пули. При этом Исфараил, являющийся людям, как правило, в образе молодого удачливого купца или молодого же удачливого военачальника (применительно к России последних дней двадцатого века -- полевого командира), не считался кровожадным существом. Он всегда оставлял человеку выбор: подчиниться или умереть.
Исфараил, таким образом, не числился стопроцентным исчадием ада. Как и положено пограничному (между светом и тьмой) демону, он обитал в надземном поднебесье -- в кристаллизующемся ледяными иглами горном тумане, в снежных влагалищах ущелий.
Теперь Мехмед знал, почему однажды в шорохе опавших осенних соцветий под ногами ему услышалось слово: "Кавказ".
Исфараилов летал где хотел. Домом же его был Кавказ.
Мехмед вдруг подумал, что встречи с людьми (к женщинам, с которыми он поддерживал неделовые связи, это не относилось) уже давно не доставляют ему удовольствия. Даже с бывшим российским премьером (нынешним вице-президентом, а может, кем-то еще, Мехмед не успевал следить за извивами его служебной карьеры) он предпочел бы решить дело заочно. Скажем, путем обмена посланиями по электронной почте. Вот только с президентом -- "сыном ястреба" -- встреча с глазу на глаз пока еще была желательна. В отличие от встречи с Исфараиловым, которая, как догадался Мехмед, была предопределена свыше (слева, справа, сниже?).
Причем у Мехмеда не было ощущения, что тут замешаны цифры. Нечто более существенное. О душе Мехмеда, точнее, по душу, еще точнее, по то, что от нее осталось, Мехмеда приехал человек по фамилии Исфараилов.
У которого не было души.
Как, по всей видимости, не было ее и у "сына ястреба", для которого (Мехмед в этом не сомневался) давние и недавние дела (преступления) являлись не чем иным, как цифрами. В результате такой-то операции "пропало без вести" (в документах госбезопасности конца сороковых использовалась именно эта формулировка) столько-то человек. Такого-то числа на такой-то номерной счет в таком-то банке поступило столько-то миллионов. Это сейчас. Впрочем, то был уже не столько документ с подписями и печатями (как в конце сороковых) для истории, сколько бесстрастный цифровой код (чертеж, скелет) некоего экономического мероприятия -- допустим, инвестиционного конкурса, взятия чего-нибудь в аренду, подписания соглашения о каком-нибудь строительстве и т. д., -- информационное сообщение для посвященных: для отправителя денег, владельца счета, доверенного банкира.
На смену одним цифрам пришли другие.
Вот только составители уравнений остались прежние.
Такая мелочь, как пропавшие без вести люди, по-прежнему их не интересовала.
То есть, конечно, интересовала, но лишь в том случае, если вместе с людьми без вести пропадали цифры. Люди, случалось, устраивали засады на дорогах цифр, уводили прекрасных пленниц в неизвестном направлении. Впрочем, кто занимался этим, знал, на что шел и, как правило, не заживался на свете. Убить человека и остаться безнаказанным было довольно легко. Гораздо труднее было увести значительную сумму (цифру) и остаться в живых. Это удавалось крайне редко.
И в основном в России.
Россия в настоящее время была настоящим инкубатором, фабрикой по производству миллионеров. Но Мехмед не сомневался в действенности уравнения на все времена: "цифра минус жизнь", не верил, что не должен пострадать тот, кто берет, как утверждали новоявленные российские миллионеры, ничье.
Просто это было отсроченное во времени наказание.
В мире не было ничего ничьего. Овеществленный труд (дома, заводы, котельные, линии электропередачи, ядерные реакторы и т. д.) был напрямую связан с миром, существование которого наука отрицала, -- с миром мертвых, ибо человечество на девяносто девять процентов жило трудом мертвых. Именно мертвые, таким образом, отслеживали справедливость, которая осуществлялась в неожиданных, но в общем-то предсказуемых вариантах: наказывались не только те, кто хапнул, но и те, кто по недомыслию, безволию или из корысти отдал (не свою) собственность в ущерб многим, что-то при этом, естественно, поимев. Мнимая неуязвимость сохранялась лишь за, так сказать, апостолами нового уклада (приватизации), но исключительно потому, что в отношении них у мира, который современная наука отрицала, были особые (Мехмед не сомневался, что масштабные и интересные) задумки.