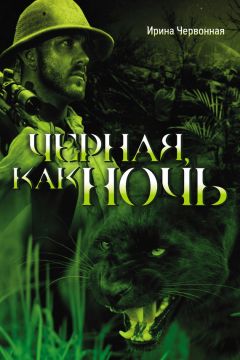С. Бельский - Под кометой
— Я возвращаюсь из обсерватории и могу вам сказать наверное, что комета существует.
Лицо бродяги оживилось, он рассмеялся хриплым смехом.
— Да! вы ее видели? Отлично, значит я жду не напрасно.
И внезапно с приливом откровенности он заговорил.
— Если бы знали, как мне хотелось бы присутствовать, когда будет гореть весь мусор, начиная от парламента и кончая учеными в мантиях.
Меня неприятно поразила та радость, с которой этот человек в лохмотьях, сидевший среди пустыря, говорит о гибели всего, что с таким трудом накоплено тысячелетней историей человечества. Я не удержался, чтобы не сказать ему этого прямо.
— А какое мне дело до вашего человечества? — ответил с раздражением бродяга. — Что оно мне дало? вот я сижу здесь под этим черным небом, голодный. И если я здесь умру, то как вы думаете, заметило бы это человечество?
Он встал и говорил, размахивая длинной жилистой рукой.
— Но, позвольте, никто не может быть равнодушным к будущему человечества! Все страдания людей, и живущих теперь и живших раньше, необходимы для того, чтобы создать счастие будущих поколений, придет время когда не будет страданий…
Бродяга прервал меня презрительным жестом.
— Поймите же вы, что я не хочу быть рабом этих будущих людей! И какой толк для меня и для миллионов других таких же, как я, в том, что когда-то через десять тысяч лет люди будут жить в райских садах, что ли. Я хочу жить и все другие, которые умерли, не дождавшись этого вашего блаженства на земле они тоже хотели жить. Счастье нужно было им самим, а не каким-то там неведомым жителям блаженной страны.
Я не знал, что ответить на эту коротенькую речь, произнесенную с большой злобой и молча смотрел на худое лицо моего собеседника, освещенное слабым синеватым светом.
— Да, я за все счастие этого будущего человечества не отдам ни одного дня своей жизни. И в чем оно будет заключаться это счастие? Я уже теперь ненавижу этих ваших здоровых счастливых тунеядцев будущих веков, которые на моем страдании создадут, совершенную жизнь.
Он внезапно умолк, опустился на край сруба и проговорил уже спокойно.
— Я жду кометы. Она по крайней мере удовлетворит чувство мести.
По моему, кто толкует о жирных бездельниках, которые, может быть явятся, когда сгниют наши кости, тот либо дурак, либо не знает, цену слезам и крови.
Не желая вступать в спор я молча пошел к аэроплану.
Накрапывал мелкий холодный дождь.
Туман сгустился и огни Гелиополиса казались заревом, охватившим, половину неба.
Глава IV
Язык идиотов. — В красном свете. — Рухнувшие стены. — Нашествие варваров
Я несколько раз принимался писать статью о поездке в обсерваторию и каждый раз бросал перо, рвал исписанные листы и уходил на улицу, где под знойным белым небом, скрывавшим огненный знак разрушения, шла старая привычная жизнь. Тот искусственный язык, на котором мы писали, совершенно не годился для выражения новых, глубоких и неожиданных идей. Если бы эсперанто, родоначальник сотни искусственных языков, был выдуман в древности и стал языком писателей и ученых, то мир не увидел бы Шекспира, Ньютона, Пушкина и Достоевского. Самый гениальный скульптор ничего не сделает из мусора. Но эсперанто был только первым шагом, первым преступлением на том пути, который привел человеческую мысль в душное подземелье, лишил её крыльев и гения сравнял с идиотом.
Перед концом мира, когда люди с величайшей легкостью переносились из одной страны в другую и на площадях городов, в гостиницах, на палубах аэроплана, мешались все племена, международный язык был так прост, что его в один день мог изучить самый глупый человек, какого только можно было найти под всеми географическими широтами.
Грамматика состояла из трех правил. Все слова производились от четырех корней: пи, ри, фью, клю.
Этот всеобщий язык назывался птичьим, так как разговор на нем напоминал щебетанье птиц.
Вот для образчика две фразы.
— Фьюти пиклю (я хочу есть).
— Пи пи фью? (который час).
Заклинаю людей будущего мира не заводить искусственного единого языка, если только среди них не будут преобладать слабоумные и совершенные идиоты. Большие газеты, расходившиеся в миллионах экземпляров среди разноплеменного населения, все печатались на птичьем языке и поэтому у писателей не было стиля. Как сухие листья, упавшие с зеленых шумных древесных вершин, кружились под пером бессмысленные слова и слагались пустые мертвые фразы.
Кто говорит и пишет на живом языке, тот окружен тайной; мысль его обвевают бури и ветер; над ней горят звезды и солнце. Живое слово летит из ночи, что осталась сзади нас, и несет силу творчества того, кто ушел и не вернется.
Изобретатели искусственного языка постоянно уверяли, что хотят помочь объединению человечества, — но достигли только того, что всюду— в Токио или в Мадриде у первого встречного можно было получить справку о названии улицы, направлении дороги, или о цене питательных пилюль. За этот великолепный результат птичий язык убил творчество, потому что никому не было охоты писать для ограниченного круга читателей, и книги превратились в склепы, где умные и глупые, новые и старые мысли были замурованы при помощи трех грамматических правил и четырёх корней всеобщего языка.
На улицах Гелиополиса я не заметил ничего такого, что бы указывало на растущую панику среди многомиллионного населения мирового города.
О комете почти не говорили. Мне самому начинало казаться, что видел скверный сон, и что небо не может скрывать в своей ясной спокойной бездне тех крутящихся огненных вихрей, которые ослепили меня в обсерватории. На одной улице я встретил процессию монахов, они шли с зажженными свечами и что-то пели. Начала собираться толпа, но сейчас же вмешалась полиция и после небольшого замешательства процессию оттерли в глухой темный переулок.
Толпа стояла молча, словно чего то дожидалась.
Разносчик, прижатый к окну магазина, выдавил лотком стекло и вступил в перебранку с приказчиком. Это маленькое событие отвлекло внимание уличной черни от мрачной процессии, и когда дверь в магазин закрылась, толпа начала разбредаться.
В другом месте, недалеко от Королевской площади, я видел кучку людей, собравшихся около стены, на которой было наклеено объявление гелиополисского губернатора, предупреждающего, что все слухи о комете сильно преувеличены. Бумага была еще сырая и какой-то парень сорвал ее и бросил в канаву.
Газеты были переполнены известиями о комете, о которой по телеграфу сообщали со всех концов света, и к вечеру настроение уличной толпы изменилось.