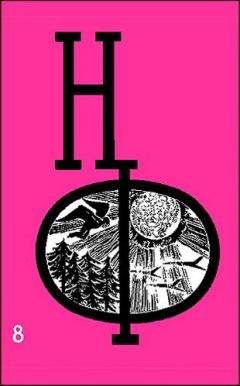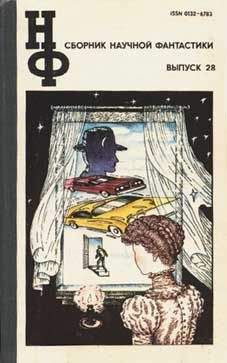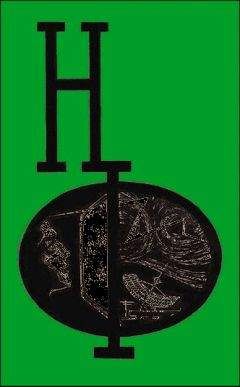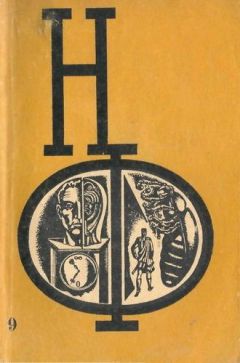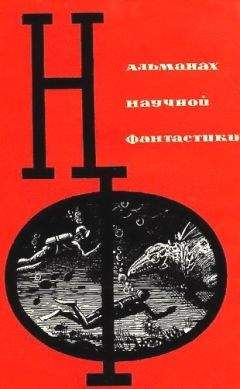Геннадий Гор - НФ: Альманах научной фантастики. Выпуск 6
— Нет, не кажется, — ответил я.
Серегин вопросительно посмотрел на меня.
— Ведь он призван, — продолжал я, — соединить не поколения, а два разума, две логики; нашу и ту, что уполномочила его.
— Бросьте, — перебил меня Серегин, — не верю. Да и вы не верите в то, что говорите. Он гипнотизер, телепат, талантливый фокусник, умеющий ловко играть на чужом восприятии.
— Тогда почему, он продает книги, а не выступает с психологическими сеансами, за которые хорошо платят?
— Любит книгу, — сказал Серегин. — Сейчас таких много, помешанных на книге. Особый сорт людей. Такие раньше уходили в монастырь, запирались в кельи ради разговора наедине с богом, Сейчас богом стала книга. Она заменила веру. Прибежище суровых, аскетичных душ.
— Вы думаете, он аскет?
— На продаже книг не отрастишь себе брюшко, не построишь дачу в Зеленогорске.
Продавец увидел нас и поманил к себе взглядом. Мы подошли.
— Найдется кое-что и для вас, — сказал он тихо. — Интересная новинка. Перевод с английского. Вы оба, кажется, интересуетесь семиотикой, знаками? Это как раз на интересующую вас тему.
И он протянул нам книгу, которая называлась «История знаков и символов».
— К сожалению, один экземпляр. Книга дефицитная. Не знаю, кому и дать, хоть рви пополам.
Я уступил ее Серегину, сделав вид, что книга мне знакома.
13
Серегина я увидел несколько дней спустя. Он пришел ко мне вечеров с рассеянным, почти отсутствующим выражением лица.
— Где вы пропадали? — спросил я.
Если я вам скажу, где я пребывал, вы не поверите.
— Где?
— В прошлом. Но не в своем прошлом, а в прошлом этого продавца книг. Он подключил меня к своей памяти, дал возможность взглянуть на мир его глазами. Мне и сейчас кажется, что он и я — это одно лицо. Я слишком много знаю. Меня гнетет одна и та же мысль.
— Какая мысль?
— Невозможность слить эти два мира, которые сейчас одновременно живут в моем сознании.
— Успокойтесь. Расскажите все по порядку.
— Хорошо, — сказал он. — С чего начать? В моем сознании перемешались все концы и начала. Не перебивайте. Дайте придти в себя… Я преодолел этот барьер, это невидимое нечто, которое все время стояло между ним и мною. Он пригласил меня к себе. Обычный дом. Лестница. Дверь. Ящик для газет и писем… Он повернул ключ, и мы оказались в комнате, похожей на тысячу других.
— Кто вы? — спросил я.
— Сергей Тихонович Спиридонов, — ответил он. — Да, у меня есть имя, отчество и фамилия, как у каждого, кто живет в этом городе. Но у меня есть нечто такое, чего нет ни у кого из моих соседей… Мое знание жизни, мой опыт, — он усмехнулся, — мой личный опыт, помноженный на опыт нашей цивилизации…
— Бросьте, — перебил я его, — признайтесь, что вас заставляет играть эту нелепую роль «пришельца». Это неостроумно и пошло, а главное рассчитано на интеллект подростка, начитавшегося Черноморцева-Островитянина и ему подобных.
— Ладно, — сказал он. — Называйте меня Сережа. А я вас, если позволите, буду называть Валя. Сережа не может быть выходцем из другого измерения. Выпьем. Закусим. Поговорим по душам.
Он достал из орехового шкафика бутылку коньяку и несколько конфеток, как в забегаловке, и мы выпили.
— Люблю обыкновенное, посюстороннее. Впрочем, это и классики тоже ценили, особенно Чехов. Все, что вокруг нас, все эти предметы. Иногда ругаю себя за то, что пошел торговать книгами, куда обыденнее было бы торговать мылом, зубными щетками или пуговицами. Выпьем за обыденность. Валя. Вас-то, знаю, влечет сверхобычное — египетские иероглифы, слоговая японская письменность, начертания острова Пасхи. К черту! Людям нужна обыденность, вокзальная скука в знойное лето, разговоры обывателей за чаем и сам чаек. Не веришь?
Мы выпили коньяку, и я охмелел.
— Брось ты свои иероглифы, историю письменности. Чепуха. Человечество было счастливее, когда оно не умело ни читать, ни писать. Прекрасна библейская старозаветная легенда о дереве познания добра и зла. Ты не веришь мне? Не верь. Я сам себе не верю. Мне хочется стать человеком, понимаешь? А человека делает человеком не квантовая механика, не биофизика, а обыденность, привычки. Лиши человека привычек — и он станет абстракцией, иксом или игреком. А ты не догадываешься, почему я тоскую по обыденности?
— Не догадываюсь.
— Потому, что я из другого мира. Тебе не смешно? Ведь нелепо звучат эти слова, правда? Но это так. Я, в сущности, знак, иероглиф. Я создан для связи. Не веришь? Не веришь, но через полчаса ты поверишь мне, когда я приобщу тебя к природе. Сначала к вашей, земной, которую ты, да и вы все, не исключая поэтов и художников, не умеете видеть, а потом я познакомлю тебя с моим далеким миром, подключу тебя к своему сознанию.
Он раскрыл ящик письменного стола, достал небольшой аппаратик, похожий на электрическую бритву, и включил его.
Я ощутил то, что ощущал в юности и детстве, когда, раздевшись, с разбегу падал в студеную реку, захлебываясь от ветра, ныряя, вдыхая в себя запах тины, рассекая плечом волну.
Затем меня охватил простор. Все во мне тянулось, ширилось, блаженно освобождалось.
— Ты река, — услышал я голос, — теки, несись, шуми.
Я уже чувствовал себя рекой, и берега были далеко-далеко. И меня несло, несло. Я видел свое свободное прозрачное тело.
Мы привыкаем к своему существованию и почти не чувствуем его. Ощущение всей остроты и стихийной силы бытия рождают в нас внезапные перемены.
Я ширился и рос и освобождался от всего, чем я был. Действительно ли я превратился в реку, как в «Метаморфозах» Овидия, как в древнем эпосе, как в волшебной детской сказке? Но мои глаза и мой слух подтвердили то, что ощущало мое тело, вдруг протянувшееся на сотни километров, пребывавшее здесь и далеко, там и тут одновременно.
В синеве холодных струй, в ряби волн, в текущей, бегущей, охватывающей свободный простор речного русла стихии я испытывал странное единство вечности и мгновения.
Я видел и берега с холмами, лесами, дорогами, и облака, которые отражались в моей прозрачной синеве, неторопливо плыли, подтверждая мысль, что мне теперь некуда спешить.
Человек чувствует себя поэмой в редкие минуты вдохновения, когда слова прилетают живые, как птицы, и поют, соединяясь в стихи и строфы. Не стал ли и я строфой, вписанной в леса и поля, обтекая их красоту и сливаясь с далью.
В сиянии летнего неба, опрокинутого на меня, я видел ласточку, охмелевшую от простора, на маленьких и сильных крылышках метавшую себя туда и сюда, игравшую с пространством, падающую и не могущую упасть, поддержанную пружинистой прозрачной синью.