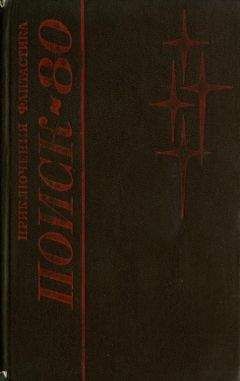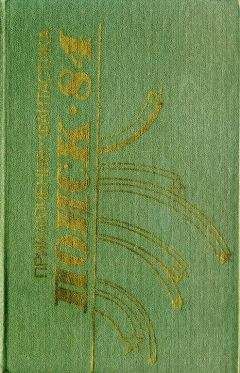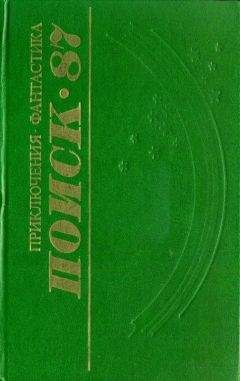Владимир Печенкин - Поиск-82: Приключения. Фантастика
— Бог в помощь, — шапку снял.
Поклонилась. Платочек поправила до бровей. Коромысло подхватила, ведерки лубяны, да и пошла бороздою, словно плыла над зеленью ухоженной... За соседским заплотом скрылась, не оглянулась. Вздохнул казак: хороша Маша, да не наша... Направился в избу.
Не вовремя наведался, — или тот, другой гость не вовремя? — сидит у Кузьмы дьякон церкви Преображенской, отец Тихон, Гореванов с поры отроческой, монастырской, недолюбливал особ духовных. Отца Тихона во храме видывал, но знакомства с ним не водил.
Дьякон, молодой еще, облика смиренного, со скамьи встал, казаку поясной поклон отвесил. Волосы жиденькие, белесые, сзади в косицу заплетены, лицом бел и тонок, одет в подрясник потертый, холста домотканого. Скопидомны, жадноваты служители божьи... Гореванов в угол покрестился, хозяину и гостю поклонился достойно, сел... Тогда лишь присел и дьякон — руки в рукава, очи опущены долу. Кузьма Тимофеич неловко, боком сидел на ложе сенном. Глядел на Ивана неприветно, дьякону подмигнул:
— Слыхал, отче, к Каменскому выселку опять неведомы ватажники набегли. Отчего така напасть, а?
Отец Тихон ответствовал негромким приятным голосом:
— По грехам нашим господь наказует...
— Ты все про грехи. А по моему разумению, оттого лихие людишки балуют, что казаки наши замест караульной службы по гостям гуляют. Ведь оно как: чей ни грех, а крестьянину поруха за всех.
Гореванов понимал: уйти бы отсюда надобно, чужой беседы не рушить — незваный гость хуже лихого татарина. Однако слово сказано не только ему обидное, а и всему казачеству в укор несправедливый...
— Зряшно баешь, Тимофеич. Каменских коровенок наши служивые отбили, хозяевам отдали. Ватажка разбеглась, не слыхать их теперь. И вот чего, дядя: ежели я тебе не люб, то и сказывай прямо, всех казаков не порочь.
Зол, неласков ныне Кузьма Тимофеич. С того ли, что на заду ему сидеть больно, ерзает, умоститься ладом не может.
— Хошь, казак, чтоб тебе прямили? Изволь! Но и ты без утайки ответствуй: чего ради сюда ходишь? Меня, убогого, проведать? Эка забота приспела! А не тайный ли сыск замыслил? Так помни: в выселке не только собаки злы...
Белое лицо дьякона болезненно изморщилось.
— Окстись, для чего речешь гостю дерзостно? Какой сыск? Нешто мы крамолу замыслили? Мы, господин десятник, беседу ведем благонравную, более в рассуждении жития пристойного, христианину подобающего...
Но Иван уже шапку в охапку.
— Не впрок вам беседа такова, ежели казака от ярыжки не различили. Прощевайте, беседники благонравные.
— Прости великодушно, хвор Кузьма, оттого и речи ведет неразумны. — Кузьме перстом погрозил: — Грех тебе, грех! Гордынею преисполнился, раб божий!
Кузьма привстал, избочась.
— Ладно, не серчай, служивый. Может, и сдуру поклеп я возвел. Да в диво мне от чинов воинских забота добрая. Ты сядь, смени гнев на милость. — К дьякону обратил растрепанную бороду. — Гордыня, баешь? Какая, братец, гордыня, коли в скудости ныне. В кои-то веки пришли ко мне человеки, а нету винца поднести, чтобы душу отвести. Вот грех-то в чем!
Гореванов, остыв, полез за пазуху, бутылку зеленую вынул. Отец Тихон покачал укоризненно головой. Но Кузьма воспрянул, над столом воспарил драным голубем.
— Гляди-ко! Дьякон, ликуй! Раб божий Кузьма, на сей земле мученик, ныне благодати удостоился. Хошь покуда не от бога, от десятника — все одно благо!.. Ты, милок, пошарь-ка на печи, добудь луковку, мы ее с солью вкусим.
Приговаривая, кособоко проковылял к полке, принес себе чарку берестяну, казаку — оловянну, дьякону, по чину его духовному, — лампадку синего стекла.
— Желаем тебе, казак, сколь можно дольше в седле держаться. Отче, не вороти рожу-то, благослови трапезу.
— Вредоносно тебе зелье сие, — укорил дьякон, благословляя все ж чарки и нарезанную луковицу. Выпили. Кузьма крякнул, защурился, подышал.
— Теперь, брат, со всех концов я распробовал, какой ты хорош человек. Другой раз на правеж поведут, уж сделай милость, изволь самолично постегать. От душевного человека и битье приятственно.
— Ежели вдругорядь коня пропьешь — постегаю. Конь, он как друг, разве можно его продавать?
— Продавать? Что ты, парень, нешто я на таку пакость себя уроню?
— Вот те на! Куды ж лошадь девалась?
Мужичонка плечами обвис.
— Не продавал я, видит бог...
— На вино променял?
— А? Да выходит так. Охота есть, так послушай, будет молодцу наука. Вишь, тогда о полдень доехал я до постоялого двора. На горе мое денежка в кармане завелась. А денежка у нашего брата покойно не лежит, она там шевелится. Дай, думаю, щец похлебаю. Сперва же чарочку малую приму с устатка, выпил. Думаю: что я, щей не едал? Хлебца пожую — и ладно. Ну-кась еще одну выпью. Потом целовальник сам третью налил — не выливать же обратно. На хлеб денежки и не хватило. А жара — не приведи боже... Ну и пробудился ввечеру, во дворе на наземе почиваю. Азям на мне, шапка при мне, лапти на ногах — лопотина дырява никому не нужна. А лошади нету! Полон двор лошадей и телег, а моей каурки не сыскал, ищи-свищи... Голова тяжела, а от горя и сам тяжел, белый свет помрачился... Бегаю, всех пытаю: не видали каурую мою? Постояльцы смеются: пропил-де и заспал. И пошел я, братцы мои, пешком по дороге. Иду, шагаю, а в глазах-то все плывет, туманится, черен свет кругом... За околицу вышел, где никто меня не видит, лег в пыль придорожну — нету силов никаких... Округ меня полынь, трава горькая, и во мне полынь, горечь...
Лохматые брови на переносье изломились, надтреснутый голос перемежался кашлем, всхлипом ли.
— Лежу горюю. А от крайнего двора пес, огромадный волкодав, стон мой услышал, набежал, рычит на чужого... Так не рванул же, сударики вы мои! Пес, зверь, а понял — в беде я великой! Он мне... он мне руку лизнул... лег поодаль да так жалобно заскулил... И, братики мои, от песьего к горю моему разуменья улился я слезьми, ровно баба неразумная. Так и плачем двое у околицы села чужого, проезжего...
— Так надо было коменданту и обсказать.
— Сказывай, не сказывай — лошади-то, голубушки, нету. А коли нету, то меня к ответу... Езжу по градам и весям, гляжу — сколь много неправды кругом деется! У кого сила есть — тот совесть потерял. У кого совесть — бессилен тот. Таково обидно станет, прямо хошь в омут головой! А и в омут не можно, потому как дочерь одна останется, без защиты на сем свете жестоком...
Иван сказать хотел: «Какой из тебя защитник...» — да смолчал. Без того Кузьме ныне худо. Хоть бы дьякон молвил утешное слово.
Дьякон и впрямь молвил, будто мысли Ивановы услышал:
— Смятенна душа твоя. А ты смирись, раб божий. На бога уповай, он есмь добра и зла мерило. Токмо в молитве ищи покой для души страждущей.