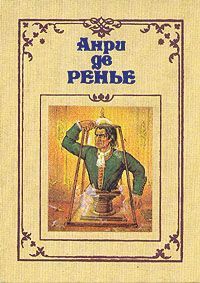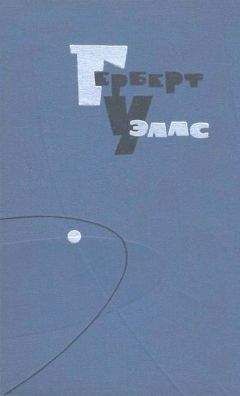Герберт Уэллс - Самовластие мистера Парэма
Время шло, и восприятие мистера Парэма притупилось, сознание уже не отмечало каждую мелочь с такой отчетливостью, как в начале вечера. Он, должно быть, каким-то образом потерял леди Гласглейд: рассуждая о том, что долг дворянства, даже и не родового, руководить массами, он обернулся, желая узнать, согласна ля она с ним, но ее уже не было. В начале вечера он искрился остроумием, но постепенно на смену легкомыслию пришла возвышенная мрачность, солидная и, однако, забавная торжественность. Он заговаривал с незнакомыми людьми о сэре Басси.
— Это одинокая, мятущаяся душа, — говорил мистер Парэм. — А почему? Потому что он лишен традиций.
Ему запомнилось, что он долго и безмолвно с восхищением и жалостью следил за очень красивой, высокой и стройной женщиной с замкнутым лицом: она была одна и, казалось, ждала кого-то, но так и не дождалась. Его тянуло подойти к ней и сказать чуть слышно и внятно:
— Почему вы так печальны?
Она вздрогнет и в удивлении обратит на него взор прекрасных фиалковых глаз, и тогда он ошеломит ее сверкающим водопадом слов. Он сплетет правду с вымыслом. Он сравнит сэра Басси с Тримальхионом. Он кратко, но живо перескажет ей роман Петрония. Потом он рассмешит ее забавными и злыми анекдотами о королеве Елизавете, Клеопатре и иных знаменитостях и совсем очарует ее.
— Скажите мне, — обратился он к проходившему мимо молодому человеку с моноклем и повторил: — Скажите…
Тут он повел рукой, но что-то непонятное и удивительное приключилось с его пальцами, и некоторое время он с изумлением разглядывал их, ничего не замечая вокруг.
Нетерпение на лице молодого человека сменилось сочувственным любопытством.
— Что именно вам сказать? — осведомился он, всматриваясь через монокль в руку мистера Парэма, живущую своей отдельной, самостоятельной жизнью, а затем переведя взгляд на его лицо.
— Кто эта прекрасная дама в черном и с… кажется, это называется стеклярус?
— Это герцогиня Хичестерская, сэр.
— Весьма вам признателен, — сказал мистер Парэм.
Его настроение переменилось. Этот глупый, шумный, бессмысленный, блестящий, многолюдный, затянувшийся далеко за полночь прием утомил его. Чудовищный вечер. Вечер вне истории, непонятно, с чего он начался, и он ни к чему не приведет. Здесь все перемешалось. Герцогини и танцовщицы. Профессора, плутократы и блюдолизы. Надо уходить отсюда. Его задержало только одно: он никак не мог найти свой шапокляк. Он похлопал по карманам, обозрел пол поблизости, но шапокляка не было.
Странно.
Вдалеке он увидел человека с шапокляком в руках, да, без сомнения, это был шапокляк. Не выхватить ли его из рук наглеца, не сказать ли сурово:
— Прошу прощенья…
Но как докажешь, что этот шапокляк принадлежит ему, Парэму?
4. Ноктюрн
Мистер Парэм внезапно пробудился. Ему отчетливо припомнилось, как он оставил свой шапокляк на столе в том зале, где был сервирован ужин. Без сомнения, какой-нибудь усердный слуга поспешил его прибрать. Надо будет с утра написать в «Савой».
«Сэр», или «уважаемые господа», или «Мистер Парэм свидетельствует свое почтение». Не чересчур суровый тон. И не чересчур фамильярный… Ти-рим-пам-пам.
Шапокляк он, правда, забыл, зато, кажется, принес домой чуть ли не весь джаз-банд. Теперь джазбанд играл у него в голове, и неугомонный негр все еще размахивал руками с той же бешеной энергией. Эстрадой служил медный обруч головной боли, туго стянувший мистеру Парэму череп. Эта музыка не давала уснуть, и читать что-то не хотелось, а потому мистер Парэм почел за благо тихо лежать в темноте — вернее, в тусклом предрассветном сумраке, — отдаваясь течению порождаемых музыкой мыслей.
Ну и глупейший был вечер!
Глупейший вечер.
Мистер Парэм вдруг понял, сколько им упущено счастливых возможностей, как безрассудно он гнался за развлечениями, как недоставало ему целеустремленности и самообладания.
Эта самая Гэби Грез — да она смеялась над ним! Во всяком случае, она вполне могла над ним смеяться. Может быть, и смеялась?
Джаз-банд, не смолкавший в черепе, напомнил ему сэра Басси — вот он стоит одинокий и беззащитный и покачивает головой в такт субтропическому буйству звуков. В ту минуту он словно бы приуныл и казался рассеянным. И, конечно, совсем не трудно было бы поймать его на этом настроении, поймать — и уже не выпускать. Следовало подойти и негромко, но внятно сказать что-нибудь многозначительное.
— Vanitas vanitatum, — мог бы, например, сказать мистер Парэм, и, поскольку никогда не знаешь, где границы первобытному невежеству этих выскочек, надо было бы сразу же тактично перевести: «Суета сует».
А почему суета? Потому что у вас, дорогой сэр, нет прошлого. Потому что вы утратили связь с прошлым. А у кого нет прошлого, у того нет и будущего. И постепенно можно было бы перейти к тому, что человек должен смотреть вперед, в будущее — и к влиятельному еженедельнику.
Но вместо того, чтобы высказать это напрямик, откровенно и ясно, самому сэру Басси, он слонялся из угла в угол и говорил об этом Гэби Грез, леди Гласглейд, всяким старичкам и вообще кому попало, без разбору.
— Я не привык действовать, — горько пожаловался мистер Парэм господу богу. — Мне не хватает решительности. Я всякий раз упускаю счастливый случай.
Некоторое время он лежал и размышлял о том, что всем ученым и мыслителям пошло бы на пользу, если бы хоть раз в день они были вынуждены предпринять тот или иной решительный шаг. От этого у них окрепла и закалилась бы воля. Но что потом?.. Вдруг, обучившись действовать, они разучились бы критически мыслить? А если от этого огрубеет, притупится ум?
Немного погодя он уже вновь мысленно спорил с сэром Басси.
— По-вашему, жизнь — удовольствие, — говорил он. — Но это не так. Жизнь — ничто. Меньше, чем ничто. Ржавчина.
Ржавчина. Самое подходящее слово. Наш век — век ржавчины. Если вам нужны параллели, читайте Петрония. Тогда Рим еще держал в кулаке весь мир. Но это тоже был век ржавчины. Куда ни глянь, все спешат от одного беспутного наслаждения к другому. Старинные обычаи заброшены в погоне за новизной. Взять хотя бы эти смехотворные шапчонки, которые пришли на смену солидным шапоклякам. (Если вдуматься, не стоит труда разыскивать забытый шапокляк. Надо будет обзавестись вот такой вечерней мягкой шляпой.) Не признают старшинства. Никакой сдержанности. Герцогини, графини, дипломаты, модные врачи водят компанию с хорошенькими певичками, мелкими искательницами приключений, с художниками, торговцами, актерами, кинозвездами, с темнокожими певцами и разными нынешними Казановами и Калиостро — и такое окружение им даже приятно: ни порядка, ни сознания своего долга перед обществом. Таким, как сэр Басен, надо бы сказать: «По странной прихоти случая вы получили власть. Но бойтесь власти, которая не несет с собою и не развивает традиций. Вспомните выдающихся деятелей прошлого: Цезарь, Карл Великий, Жанна д'Арк, королева Елизавета, Ришелье (вам следовало бы прочесть мою книжицу о нем). Наполеон, Вашингтон, Гарибальди, Линкольн, Уильям Юэрт Гладстон — короли, жрецы и пророки, государственные мужи и мыслители, созидатели великих держав, — несгибаемая воля, неудержимое стремление вперед! Вспомните могучих ангелов в доспехах, прекрасные лики — воплощение страстной силы, не знающей преград! Судьбы нашей империи! Судьба Франции! Наш славный флот! Боевые знамена! И вот ныне меч власти в ваших руках. Неужели он послужит лишь для того, чтобы нарезать бесчисленные сандвичи для ужина?»