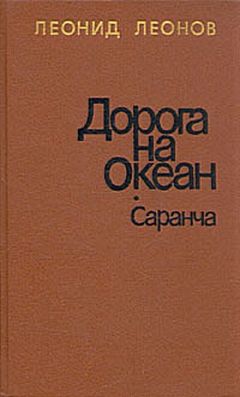Леонид Леонов - Дорога на океан
Мальчику взмечталось стать моряком. Он и во снах видел круглые синие просторы, неописуемые города на их побережьях, крылатые посудины в заливах. В дождливую пору разливался ручей под городком, где вырос Курилов; на нем-то и устраивали слободские ребята примерные сражения самодельных эскадр; бессменным адмиралом и корабельным мастером бывал у них Лешка Курилов. Но сезон, наиболее благоприятный для посещения первозданной родины мира, как таинственно и неохватно сказано было в книжке про Океан, миновал. Куриловская весна проскочила, как нахлестанная. Отец выписал его к себе в столицу. Мастер показал мальчику тиски и ящик с инструментами. Выдали табельный номер и научили, как опиливать головки прижимных винтов. Впервые Алексей заработал себе сапоги. Мечтание не возвращалось...
В полном разгаре стояло лето жизни, когда снова вспомнилось об Океане. Воспоминание застигло его на телеге. Днище ее было застлано жаркой соломенной трухой. Армия отступала, по арьергардам лупили немецкие дальнобойки, раненых везли в тыл. Стоял июль. Солнце добивало недобитых. Где-то на полпути Курилова положили в доме ксендза. Скрипели колеса за окнами и пели уцелевшие петухи. На тесовом потолке билось смятенное стрельчатое отраженье лужи. Мечта приступила внезапная, встрепанная, истерзанная бредом. Поднималась и падала прозрачная волна; он сам был на ее гребне. Потом затихала острая, такая прямая боль в груди, и ощущением зрелой океанской тишины наливалось обессилевшее тело.
Со временем наглухо зарубцевалась царапина детства. Самое понятие об Океане как о вольном множестве вод распалось. В жизни вода пребывала в самом низшем своем качестве: ее наливали в ванну, в тендерную коробку паровоза, в стакан с лимоном; иногда также она неопрятно падала из тучи. Вдруг он снова заболел Океаном. Случилось это на совещании по топливу,— Курилов был тогда председателем облисполкома. Недогрузка угля и нефти совпала с прорывом по торфу и дровам; заводы целой области сбивались с плана. Ломило голову после ночи, потраченной на подготовку к докладу. Сараистой этой комнаты не проветривали никогда. Все в ней, даже чернила, пропиталось вонью стоялого табака. Курилов вел заседание, открыл окно. Мокрый океанский сквозняк ворвался сюда с разбегу. Завихрились занавески, по-птичьи затрепетали ожившие бумаги, где-то хлопнула с дребезгом стеклянная дверь, курьерши помчались по коридорам. Капли дождя упали на картонные папки, оставляя пухлые желтые кружки... Океан был осенний, тревожный, он старел. Срывало корабли с причалов; все доступное глазу двигалось: в зеленоватых распадах волн не успевали отражаться дымчатые бегучие облака. Оппонент демонстративно поднял воротник пиджака, четыре фурии ворвались в разные двери, Океан закрыли.
Вот в последний раз представлялась возможность побывать на его берегу. В вагоне Курилова висела карта страны. Он следил по ней за ходом мотрисы... Вагон успел пройти две трети Волго-Ревизанской, когда Алексея Никитича нагнало сообщение из Москвы. Кате-ринке было плохо. Телеграмма была подписана сестрою. Курилов побаивался этой знаменитой старухи. Суховатая, своенравная, прямая, она не терпела возражений» Эта женщина не имела личной биографии; отдельные этапы ее обозначались общественными и партийными датами. И если Клавдия любила кого-нибудь из живых, то одну лишь Катеринку.
Телеграмму принесли на разъезде, когда Алексей Никитич вышел посмотреть, как тут, в глуши, делается жизнь. Пыхтела местная лесопильная установка. Наливная рябая девка в белой мордовской рубахе несла две доски на плече; они плясали и прогибались в такт ее шагу. Кроме того, беременная женщина развешивала белье на плетне, и посвистывали какие-то соответственные сезону птицы. Курилов спрятал бумагу в карман и, горбясь, вернулся в вагон.
Не задерживаясь нигде, наводя трепет на районных диспетчеров, мотриса мчалась назад. Линялые чувашские леса провожали ее бегство. Куриловский Океан снова оставался позади. Телеграмма пришла по дорожному селектору, и на станциях уже были осведомлены о переменах в семейном положении начподора. Начальники находились на своих местах; они прикладывали руки к козырькам, когда стремительный, с приспущенными шторками, вагон ракетно проносился мимо. Дверь к Алексею Никитичу была закрыта. Транспортные сутки начинались в восемнадцать часов. В середине двадцать первого сюда с пачкой телеграмм входил старший ревизор движения. Он просил разрешения доложить предварительную сводку работы.
— Сколько погрузка?
— Две тысячи семьсот.— И смотрел, как в узкой щели под шторкой мчится осенняя горелая лента насыпи.
— Плохо. Прием с других дорог?
— Четыре тысячи триста. Сдано пять тысяч ровно, Алексей Никитич.
— Ладно. — Он становился совсем путейцем; неудачи соседей помогали ему привести в порядок свой собственный вагонный парк.— Почему мы идем так плохо?
— Мы не плохо идем, товарищ начальник. Подстегнуть — не останется от нас ни рожков, ни ножков...— Ревизор был из бывших машинистов.
— В былое время я делал в этом вагоне больше. Позовите секретаря.
Фешкин вырастал в двери, пряча в рукав папироску.
— Запишите, Фешкин. Выяснить, с какого времени на шестом участке работает обходчиком Хожаткин. И еще: вызвать ко мне в Москву Протоклитова, начальника черемшанского депо. Попутно наведите о нем справки где следует... записали? Принесите пачку табаку со стола.
Так он сидел взаперти, глядя в точку перед собою. Газетные сообщения старели с каждым километром пути. Книг не было. У Фешкина отыскался Дюма, но Курилову было не до мушкетеров. Проводник нашел за креслом узелок в наволочке: багаж гражданина Похвиснева завалился туда в суматохе. Сутки находка валялась перед Куриловым, дразня его грязноватой оберткой. Случайно он прощупал там полотенце, мыльницу и книги. Он обрадовался: книги — как колодцы в пустыне, они принадлежат всем!.. Верхняя, самая толстая, оказалась историей религий. Со скуки Курилов полистал ее. Полтысячи по-немецки добросовестных страниц сопровождались картинками. Это был наиболее полный каталог богов, с указанием родословной, возраста и даты гибели каждого. Выяснялось, что агонии их длились столетиями. Можно было проследить, как медленно спадала с человека первородная шерсть, как пытался он охватить природу своими неумелыми руками, как трудно поднимался с четверенек будущий хозяин земли. Все это были автопортреты давно исчезнувших народов. Боги были сделаны из страха, ненависти, лести и отчаянья; материал определял лицо бога. Там были крылатые, с неистовым оком в затылке, чтобы человек не напал сзади; в подобии равнодушной женщины, украшенной панцирем из грудей; в виде мохнатой ноздри, вдыхающей жертвенный дым, или, напротив, в образе мглистой сферы, полной скошенных в непрестанном движенье глаз; боги тридцатирукие, по числу человеческих ремесел, песиглавцы, быки, циклопы, слоны со священным пятном на лбу (и занятно проследить, во что отложился и сформировался на протяжении нескольких месяцев этот образ в сознании Курилова), волчицы, змееглавые тетрахироны, колючие африканские эвфорбии с ядовитым млечным соком и, наконец, просто незамысловатые чурбачки; жертвенной кровью были нарисованы на них щелеватые остяцкие глаза и жадный рот, достаточный поглотить самого себя.