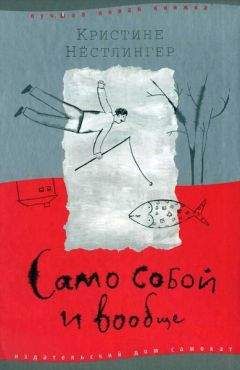Андрей Плеханов - Царь муравьев
– Его уже выбрали, – говорит Женя, и вспыхивает радостно. – Все, Дим, Сазонов победил! Все мы победили!
– Что? – я не верю собственным ушам. – Когда победил?
– Вчера.
– Какое сегодня число?
– Второе октября.
– Вот это да… – Я чешу здоровой рукой в обмотанном бинтами затылке. – Значит, я пропустил самое интересное…
– Самое интересное впереди.
– Для кого интересное?
– Для тебя.
– Мне-то какое дело? Я же не фрагрант, я «обычный», и значит, неполноценный, и в любой момент тебе могут приказать бросить меня, и ты уйдешь, потому что Ганс важнее для тебя в миллион раз…
– Ты – фрагрант, – тихо говорит Женя.
– Что, не понял! – ору я, и пытаюсь сесть в кровати, но тело не слушается.
– Тише, милый, не кричи, всю больницу разбудишь. Теперь ты фрагрант. Тебе перелили кровь.
– Чью кровь? Ганса?
– Мою кровь.
– Но ты же была в Питере!
– Я прилетела немедленно. В конце концов, какая разница, чья кровь? Главное, что ты стал нашим. Совсем нашим. Ты же всегда об этом мечтал…
– Никогда я этого не хотел! Я даже самому Гансу отказал, когда он предлагал… – вдруг вспоминаю, что происходило это во сне, и осекаюсь. – Я не хочу быть подлизой, обманывать людей феромонами, притворяться «обычным» и в то же время презирать тех, кто не фрагрант. Не хочу быть бойцовой шавкой вашего Ганса…
Женька закрывает мои губы рукой, бесцеремонно затыкает рот, пользуясь моей физической слабостью.
– У нас не было выбора, – говорит она. – Точнее, у тебя не было. Тебя не удивляет то, что пролежал в коме так долго – даже после того, как в вены твои влили кровь подлиз?
Рот закрыт жениной ладошкой, поэтому я лишь мотаю головой и мычу что-то неопределенное.
– Ты почти умер, Дим. Тебя нашпиговали пулями так, что живого места не осталось. Ты умер бы там, на месте, если бы Майор с командой опоздали хоть чуть-чуть. – Она убирает руку с моего лица. – Ты не прожил бы и полдня в любой больнице – любой, кроме нашей. – Женя скорбно качает головой. – Извини, я соврала: первая кровь, которую тебе перелили, была не моя, а Майора – я просто не успевала. Ты ведь не имеешь ничего против Майора, милый? Но крови Майора оказалось недостаточно – он стал подлизой совсем недавно, и плазма действует слабо – всего лишь не дала тебе умереть сразу же. Первая операция продолжалась шесть часов, за это время прилетела я. Знаешь, сколько тебе перелили моей крови?
– Сколько?
– Больше трех литров. Лили порцию одну за другой, и только на третий день появилась слабая надежда, что ты выживешь. И вот теперь у тебя уже хватает сил орать на меня и возмущаться, что тебя выдернули с того света.
– Три литра… – шепчу я. – Боже… Как ты выдержала, бедненькая?
– Как-то выдержала… – Темное облако появляется в ее бездонно-синих глазах. – Главное, что ты жив. Если бы надо было отдать тебе всю мою кровь, я отдала бы. Все бы тебе отдала – почки, сердце… Все… Я так боялась, что ты умрешь…
Она закрывает глаза руками и плачет. Из моих глаз тоже текут слезы. Мне нужно сказать что-то, сказать немедленно, но не могу –слова куда-то делись, и ком встал в горле колючим ежом, едва позволяя вдохнуть.
Я могу спросить, почему ей пришлось отдать большую часть своей крови[38] , ведь любой фрагрант пришел бы на помощь без малейших возражений. Но и так знаю – почему.
Потому что она любит. Меня. Она.
Именно ее любовь спасла меня – безнадежного, уже вычеркнутого из списков живых. Не плазма, белки и клетки крови, а нематериальная субстанция, в которую, однако, верят даже самые прожженные материалисты. Лучшие врачи бились за мою жизнь, но не это было главным для Жени. Она исполняла свой обряд, молилась за меня и надеялась…
– Спасибо, белочка, – шепчу я тихо, едва слышно.
Она убирает руки от лица и улыбается сквозь слезы.
– Ты была когда-нибудь в Париже, Женя?
– Пять раз.
– Ты знаешь, что такое «семулю»?
– Манная каша.
– Ее подают в качестве десерта?
– Да, под клюквенным сиропом. Ужасная гадость.
– А лавка Шекспира? Ты любишь там бывать?
– Обожаю. Ты тоже?
– Не был там ни разу в жизни.
– Откуда ты про нее знаешь?
– Ты показала мне ее.
– Когда?
– Недавно, только что, во сне. Во сне мы были с тобой в Париже, бродили по Монмартру, залезали на небоскреб, обедали в Латинском Квартале…
– Как забавно…
– Ни капли не забавно! Скорее волшебно, необъяснимо! Я был в Париже один раз, всего несколько часов, не видел там и десятой части того, что увидел во сне. Ты знакомила меня с Парижем, рассказывала мне обо всем, что знаешь, и я уверен, что все те места, которые ты показала, существуют в реальности. Как такое может быть?
– Ты стал подлизой.
– И что? Вдобавок еще и телепатом? Это уж слишком!
– Нет, нет. Просто… как это объяснить… вместе с моей кровью тебе передалась и какая-то часть моих чувств. Ганс говорит, что это генетическая память. Теперь мы связаны с тобой очень тесно. Ты будешь чувствовать, что происходит со мной, а я – что с тобой.
– А что с Гансом происходит, буду чувствовать?
– Немножко. Ведь в тебе есть часть его крови.
– И буду слушаться его беспрекословно?
– Не говори глупостей. Опять ты за свое…
– Значит, я стал подлизой? Но почему не чувствую ничего нового, особенного? Я даже запахов не чую, как не чуял и раньше!
– Все это начнет проявляться не скоро – через месяцы, годы. А обоняние… Я не уверена, что оно вообще у тебя появится. Я говорила с доктором Тихомировым, который тебя лечит. Он говорит, что перерезанные обонятельные нервы не могут восстановиться – даже у фрагрантов.
– Значит, я навсегда останусь дефектным муравьем, не чующим феромонов?
– Кто знает? – она пожимает плечами. – Время покажет…
Глава 27
Теперь вы знаете обо мне действительно много, почти все. Знаете то, что я все-таки стал подлизой, хотя и не по своей воле. Знаете, как меня убили, и как я воскрес. Знаете, что я сижу в сумасшедшем доме. Единственное, чего не знаете – как я в попал в сию юдоль скорби. Точнее, за что попал.
Иногда мне кажется, что я напортачил банально и примитивно, что, если бы встал в тот злополучный день с другой ноги, посмотрел бы с утра по телевизору другие новости, съел бы за завтраком другой бутерброд, ничего плохого не случилось бы. Но так кажется мне все реже и реже. По ночам, не в силах заснуть, я взлетаю над городом, оплетенном липкой паутиной, озираю картину с высоты, и мучительно убеждаюсь: все, что произошло – часть большого плана, направленного не только против меня. Я – всего лишь муха, глупо приклеившаяся к крученой ленте, предназначенной для глупых мух.