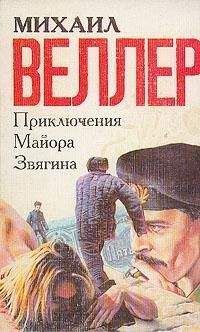Юрий Антропов - Самосожжение
Я подхожу с Юриком к окну. Облегченно вздохнув, он поднимает голову и, вытирая пальцами заплаканные свои глазенки, завороженно смотрит на огонь за окном, где стройка. Просто ли смотрит Юрик на огонь или же думает в это время о чем-то? Кто про то знает?
Я не помню, сколько времени стою у окна.
Там, где прежде были старые дома, теперь остались только деревья. Мне казалось, что они, точно взвод, поределый от артобстрела, прикрывали мою семью от серых коробок новых домов, которые теснились со всех сторон. Бульдозер, словно подбитый танк, замер неподалеку от костра, и было такое впечатление, что это он и горит, и дым от него тянется к небу, возвещая то ли о конце битвы, то ли о начале грядущих сражений.
Сколько же человеческих страстей бушевало под этими липами, которые чудом уцелели в этом аду, что был здесь до нынешнего дня! На изрытой вдоль и поперек земле, перемешанной с грязным снегом, деревья держались словно бы из последних сил. И стволы были ободраны бульдозером. Рваные белые раны. Точно кости, с которых содрали кожу вместе с мясом. А ведь когда-то человек посадил эти липы, утверждая на земле красоту, чистоту и святость. И как много всякого-разного видели и слышали эти вековые деревья! И они сгорбились, скрючились, состарились от знания того, о чем не могут сказать…
Странное чувство охватило меня! Господи, подумал я, ведь все несовершенство жизни зависит в конце концов только от самих людей, они-то и создают свою среду обитания, в которую входит, конечно, не только вода и воздух, а нечто более важное, чего подчас не понять даже самому главреду. И если бы люди знали об этом и помнили, если бы они умели говорить друг другу обо всех своих бедах и заботах, то в мире никогда не было бы войн, не говоря уже о некоторых прочих драмах и трагедиях.
«Может быть, прямо сейчас и поговорить с Алиной?» — спрашиваю я себя.
Между тем Юрику уже прискучило тихо стоять у окна и смотреть на костер. Сначала он перебрался с рук отца на подоконник и долго ловил на стекле крохотного жучка палевого цвета, взявшегося невесть откуда, настырно ускользавшего из его пальчиков. Потом, как бы выведенный из себя вероломством жучка, не дававшегося в руки, Юрик заканючил:
— Хочу к маме!
Я спустил его на пол, он умчался в другую комнату и вот уже изображает из себя долгоиграющую пластинку и звонко, от всей души горланит: «Мани-мани!.. Мани-мани!.. Мани-мани!..»
Какое-то время я сижу с закрытыми глазами и пытаюсь сосредоточиться. За стенкой, на кухне, звонит телефон.
Ну, начинается…
Черт знает почему, но я всегда настораживаюсь, когда звонит телефон. Вероятно, потому, что телефонные разговоры чаще всего огорчают меня. Не просто огорчают — порой надолго выбивают из колеи. Во всяком случае, иной раз после звонка я сижу за столом как оглушенный и пытаюсь вспомнить, о чем же это я думал, чем тешил себя мысленно минуту-другую назад, до телефонного звонка, которого, как бы втайне от себя, я ждал, конечно, хотя и побаивался.
Нет, звонят не мне. Кажется, Гошке. Наверно, Юлька. Теперь Гошка надолго прилип к телефонной трубке. Но я уже и не пытаюсь сосредоточиться. Я встаю из-за стола и беру со шкафа теннисный мяч. Был он серый, без ворса, для игры уже не годившийся. Я использовал его для укрепления кисти — машинально сжимал и разжимал, порой даже не замечая, что держу мяч в руке. Но иногда он помогал еще и отрешиться. Мяч был словно живым существом, все понимающим, жертвенно принимающим на себя все отрицательные эмоции, на которые так щедр наш мир. И незаметно для себя, держа мяч в руке, я входил в работу и на какое-то время как бы освобождал свою душу от разных забот и непонятного страха.
Конечно, не часто это случалось, не часто — чтобы теннисный мяч сам по себе врачевал мне душу. Тут ведь и кое-что другое должно соответствовать. Порой я и сам толком не знал, что именно. Может, перво-наперво, то, что ребята мои были в данный момент живы-здоровы, и сыты, и одеты и обуты и что у Алины тоже вроде бы все в порядке, правда, на носу государственные экзамены, но даже если она и провалится, то это, считал я, беда всего-навсего голубая…
Я сжимаю теннисный мяч и смотрю на чистый лист бумаги, лежащий на столе.
— Папа, откро-ой…
Я вздрагиваю, крепко сжимая мяч.
— Только на секу-ундочку… — умоляющим голоском просит Юрик.
Вероятно, он воспользовался тем, что старший брат звонит по телефону, а мама отлучилась куда-то. Вот и у Юрика появляется свой житейский опыт — он уже не тарабанит в дверь и не кричит, а потихонечку скребется и почти шепчет, прислонившись лицом к притвору.
Я борюсь с желанием встать и открыть дверь и впустить сынишку, хотя это, как скажет Алина, совершенно непедагогично.
— Открой, папа…
Год назад он являлся бесцеремонно, с радостным воплем. «Пап, на!» — счастливо кричал Юрик, протягивая ручонки. «На» означало «возьми». Вероятно, он понимал так: если со словом «на» можно передать в руки взрослых игрушки, сухарик, ложку ли, то это же слово должно служить для взрослых знаком, что надо взять на руки и его самого. Только при этом следует протянуть к ним свои ручонки. Условный, предельно простой жест доверия.
Ах, Юрик, Юрик! Святая душа. И почему человек, взрослея, утрачивает, порой бесследно, свою чистоту и мудрую наивность, данную ему от природы? Как прекрасен был бы мир! Уж наверняка не было бы и в помине той гадости и подлости, которую из ложной деликатности называют человеческими взаимоотношениями. Бесконечные войны. Геноцид. Авторитарность, элитарность и прочая мерзость стали практикой жизни людского общества, которое духовно все более вырождается, становится материалистическим, злобным, ничтожным…
— Пап, открой! — не выдерживает Юрик, но его уже оттаскивает Алина.
Плача Юрика теперь не слышно, потому что со всех сторон врываются самые разные звуки. За окном ревет бульдозер. Гудят машины. На четвертом этаже лает собака. Радиолюбитель поймал сигналы азбуки Морзе. На втором этаже девочка разучивает первые гаммы…
Звуки, от которых некуда деться, заполняют нашу квартиру, и она теперь похожа на огромный барабан.
Все, конец! Теперь это надолго…
Я достал из спортивной сумки банку с мячами. Неожиданный подарок Шурика… Бойся данайцев, дары приносящих! Что попросит Шурик взамен? Рецензию на свой новый опус?..
Глянцевая от краски банка приятно холодила мне ладонь. Будто впервые рассмотрел ее всю, а потом прочитал белые и желтые надписи на светло-коричневом фоне. Черная надпись была только одна — название фирмы. И черная пантера одна. Повыше черной надписи. И все это черное — на белом мяче, который был изображен в центре коробки. А слева и справа от мяча — те же пантеры, но только желтые.