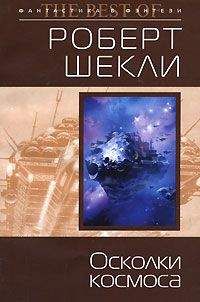Игорь Алимов - Академия Шекли (сборник)
21
Как-то лязгнули замки, и Мураша скрутили, навалившись скопом, – будто был он не лядащий да слепой недобиток, которого воробей крылом свалит да мышака в подпол утащит, а тарский батыр, семью мясами откормленный; свалили, помяли и взяли в железа. Рядом, Мураш ухом слышал, так же мяли Рысь…
Так же, да не так: билась Рысь крепко, и кто-то кряхтел и икал от боли. Потому и месили потом Рысь ногами, жутко дыша, пока кто не заорал по-гонорски: «Хватит!» Тогда перестали, отошли. А то бы убили.
Гнали их куда-то вначале по затхлому, после – по свежему воздуху. Дождь падал, пах травой. Завели в помещение, жаркое, мокрое, склизкое. Железа не сняли, одяг ножами порезали, велели мыться. Мылись под гогот.
Дали накинуть какое-то хламьё. Погнали дальше.
Когда запахло пережжённым зерном, Мураша усадили на низкую скамью, и чьи-то твёрдые тонкие пальцы, похожие на жучьи лапки, стали ощупывать его лицо. Что-то сказали по-гельвски, Мураш не понял, пожал плечами.
– Она сказала: «запрокинь голову», – голос Рыси он узнал, хотя мог и не узнать, сквозь такую боль голос тот протискивался.
Мураш запрокинул голову, снова с трудом вытерпел прикосновение жучьих лапок. Потом правый глаз словно вспыхнул – боль была синяя, холодная, острая. Он зарычал и попробовал зажмуриться, но твёрдые пальцы-коготки разодрали его веки. Свет хлынул туда, где давно уже не был.
Что-то яркое и мутное виделось ему, и плыли свекольные пятна.
– Она говорит, всё почти хорошо, – издали донёсся голос Рыси. – А другого глаза у тебя просто нет, вытек он, – добавила Рысь спустя.
В глазу темнело не скоро, пятна собирались в лики, но так и не успели собраться: погнали Мураша с Рысью дальше. Лекарка гельвская дала Мурашу тряпочку, пахнущую смолой, её он и прикладывал время от времени к глазу, который и слезился, и гноем сукровичным тёк.
Рысь неузнаваема стала, лицо разбито всё и искровавлено, и нос порван. И тоже одноглазая, второй затёк чёрной гулей, даже щелки не видать. Но целым глазом синим – усмехается.
Посадили в закрытый возок, повезли. По звуку колёс судя, по каменному тракту везли, а значит – в Монастырит. Ехали молча, о чём поговорить можно, когда с каждой стороны по стражу – сидят, подпирают?
Скучен был путь.
Однако ж доехали.
22
Когда сказали, что привезли их на суд, Мураш аж засмеялся-закашлялся. Суд! Выдумать такое…
Но вот – поди ж ты. В каморе заперли, но в тёплой, с окошком зарешёченным, и еды дали забытой: каши трёхкрупенной с маслом и взвара горячего. В отхожее место водили. Ещё раз вымыться заставили, теперь уже порознь, и не торопили никуда, и щёлоку дали не едкого – но вот одяг оставили лохмотный, хотя и чистый.
В окошко видна была стена Монастырита и башен несколько. Солнце, привычное уже, могло и заглянуть на закате дня.
Так и оказалось.
Но вот как раз когда «Ура!» шепнули Рысь с Мурашом, пришёл гельв.
Говорил он по-черноземски верно, хоть и медленно, и слова ставил не так, как обычно их ставят люди. Но понять его можно было легко.
Сказал гельв, что заключены они в крепостце, нарочно выделанной для воев, воинскую правду преступивших. И каждый ждёт суда по делам его, и многие ждут уже и по два года, и по три – это из тех, кто под стены Монастырита ходил с Уроном покойным. Хотел Мураш спросить, их-то за что держат, но не стал – плохо мысли ворочались, блевотно становилось от малого напряга.
Но их вот, Мураша и Рысь, судить будут скоро, потому что вина их проста и непременна. И всё равно по законам гельвским даже таким татям положен судный защитник, вот ему и выпало быть.
Зовут его Хельмдарн.
– Забавно, – сказала Рысь раздутым языком сквозь щерблёные зубы и губы, которые шевелиться не хотели. – Надо же было для такой глупости нас сюда волочить да ещё подкармливать…
Гельв Хельмдарн принялся объяснять, что нет ничего выше закона, и Мураш по дыханию уловил, что Рысь объяснений не слушала, а готовилась сказать что-то вклин. Набрала воздуху.
– Тебе защищать нас велели – в наказание или в честь? А, Хель?
И гельв оборвал свою речь. Горлом свистнул.
– Так это ты? – прошептал он.
– Я. Что, не пригожа?
Гельв вскочил, подбежал, наклонился.
– Не может быть… Ты.
И снова сел, весь белый, дрожа губой. Глаза обиженные, огромные, со слезой внутри.
23
Ничего Рысь после не рассказывала, да Мурашу рассказов и не надо было, как-то оно всё само собой узналось: любовь у неё была с этим парнем, да такая, что человека живьём в тонкий пепел сжигает. И когда порушилось всё, когда их, как сцепившихся котят, друг от дружки оторвали, внутри гореть продолжало…
У гельва у этого – тоже.
Никак не мог сейчас Хельмдарн поверить, что та давняя его печаль – и есть вот эта страшная заскорузлая череполикая урукхайка с топором в правой руке и с сечом в левой, и по колено в крови. Потрясло его.
Но взял гельв себя в руки, не сразу, но взял. Для суда нужно было найти оправдание действиям подсудимых…
Негоже нам оправдываться, сказал Мураш, да и перед кем? Мы от богов своих отреклись, так чем ваш суд нас может пронять? Да и нет у вас над нами суда, как нет у детей права судить стариков – огней и мук очистительных вы не прошли. Но если хочешь послушать, так слушай…
И голосом скрипуче-ровным, как санный путь, стал рассказывать про день, когда взорвалась Ородная Руина, и как потом перебирали руками распавшиеся дома в восходных, особо пострадавших городцах и слободах Бархат-Тура, доставая мёртвых и обожжённых, и редко когда целых; как видел сам, своими глазами, запечатлённые на кирпичной стене тени сгоревших в той чудодейной вспышке; как ушло лето, и не стало урожая на чернозёмных полях, когда-то кормивших всё левобережье; как пал скот, пали кони и стали падать люди; как ходят чёрные бабы по развалинам и роются, а что ищут, не говорят; как ездил он разбирать вину между тарскими племенами и востоцкими, потому что кто-то вырезал стойбища сначала одних, а потом других, везде оставляя слишком много слишком явных следов…
– Хватит, Мураш, – сказала наконец Рысь, еле шевеля губами. – Видишь, Хель заскучал…
Тот посмотрел на неё. Что-то сдвинулось в глазах, как бы моргнуло, хотя веки не шевельнулись.
– Да, – сказал он наконец. – Месть. Наверное, я понимаю…
– Это не месть, – сказала Рысь. – И ты ничего не понимаешь.
24
На следующий день он пришёл рано, принёс корзину из белой лозы. Мурашу казалось, что внутри тоненького гельва что-то гудит-звенит, как пчелиный рой.
В корзине были сладости в основном – наверное, вспомнил, как угощал любу в монастырицких розовых чайных. Рысь засмеялась; точнее, можно было догадаться, что это она так смеётся.