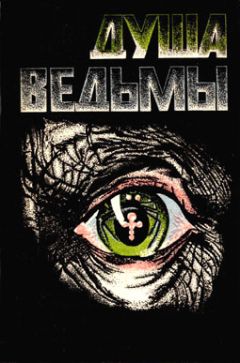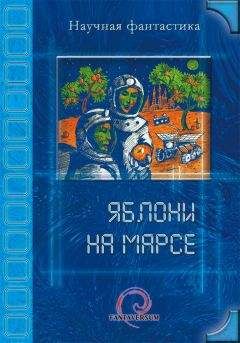Фредерик Пол - Кометы Оорта
Как только Маршан услышал, что Эйзель собирается сделать, он ухватился за это, как за шанс искупления вины. Проект был очень прост. Отличное испытание для двигателя Эйзеля, да к тому же и миссия милосердия. Они намеревались на огромной скорости отправиться вслед за медленно летящим, уже давно покинувшим Землю «Тихо Браге» и догнать его на полпути: даже к настоящему времени, когда минуло тридцать лет после взлета звездолета с космопорта Кеннеди, он все еще тормозил, чтобы выйти на подходящую орбиту вокруг Грумбриджа 1618. Когда Маршан привязался ремнями, Эйзель снова начал свои объяснения. Он говорил и одновременно занимался проверкой черного ящичка.
— Видите ли, сэр, мы попытаемся привести в соответствие курс и скорость, но, честно говоря, это будет непросто сделать. Догнать их не самое главное: мы должны иметь одну с ними скорость. И тогда мы переправим второй полифлектор на «Тихо Браге»…
— Да, спазибо, — вежливо поблагодарил Маршан, но он по-прежнему не прислушивался к словам относительно этой машины… Пока она существует, он будет использовать ее — его совесть не позволит ему отказаться от этого, но избавьте его от деталей.
Ведь из-за нее, этой штуковины, столько жизней были угроблены впустую!
Каждый год, проведенный в глубоком анабиозе «Тихо Браге» означает месяц, вычеркнутый из жизни людей, находящихся в нем. Дыхание замедлялось, но все же не останавливалось до конца. Сердце не билось, но кровь продолжала перекачиваться насосами; по трубкам в спящую кровь вводились сахар и минеральные вещества; катетеры удаляли продукты распада. А до Грумбриджа 1618 было еще девяносто лет пути.
Лучшее, на что мог надеяться сорокалетний человек, то, что по прибытии у него будет тело, имеющее биологический возраст около пятидесяти лет, в то время как там, на Земле, его семья уже давно умерла, все друзья обратились в прах.
Но путешествие стоило того. Или так думали колонисты. Червячок, что извивается в позвоночнике исследователя, непреодолимое стремление гнали их вперед — обнаружить богатство, мощь и свободу нового мира, занять место в исторических книгах — место не Вашингтона и даже не Христа. Они должны были занять место Адама и Евы.
«Это того стоит», — так думали все те тысячи добровольцев, отважившихся на это путешествие. Но что они будут думать, когда совершат посадку!
Если они высадятся, не зная всей правды, если какой-нибудь корабль, вроде эйзелевского, не перехватит их на полпути и не расскажет об этом, то их постигнет самое жестокое разочарование, которое когда-либо испытывал человек. Согласно их первоначальному плану полет «Тихо Браге» до Грумбриджа 1618 должен продлиться еще сорок лет. После появления эйзелевского сверхсветового двигателя перед ними предстанет планета, населенная сотнями тысяч людей, с работающими заводами и строящимися дорогами, где лучшие земли уже будут заняты и будет написано не менее пяти глав истории освоения планеты… И что же тогда подумают три тысячи стареющих искателей приключений?
Маршан простонал и покачал головой, но вовсе не потому, что корабль начал подъем и ускорение прижало его грудную клетку к позвоночнику.
Когда заработал полифлектер, он проплыл через пилотскую кабину и присоединился к остальным.
— Я никогда не был в козмозе, — произнес он.
Эйзель с большим уважением сказал:
— Ваша работа проходила на Земле.
— Да, проходила. — Маршан ничего больше не добавил.
Человек, чья вся жизнь оказалась ошибкой, был кое-чем обязан человечеству, в частности, на него была возложена обязанность сообщить им правду.
Он внимательно наблюдал за тем, как Эйзель с Фергюсоном прочитывали показания приборов и делали микрометрические установки на полифлектере. Он ничего не понимал в устройстве сверхсветового двигателя, но знал, что карта всегда остается картой. Здесь был изображен курс экспедиции к Грумбриджу. 1618. «Тихо Браге» был светящейся точкой, преодолевшей уже девять десятых расстояния, разделявшего Солнце и звезду системы Грумбридж, что означало примерно три четверти пути по времени.
— Масс-детекторы, доктор Маршан, — весело произнес Эйзель, указывая на карты. — Хорошо, что они не слишком близко, иначе их массы было бы недостаточно, чтобы мы могли засечь их. — Маршан понял: те же детекторы, что показывают звезду или планету, покажут также и единственный звездолет весом в миллион тонн, но только, если его скорость настолько огромна, что возможен эффект увеличения массы. — И хорошо также, — добавил Эйзель, выглядя встревоженно, — что они не слишком далеко. Похоже, у нас теперь будут проблемы с выравниваением скорости, даже если они они уже девять лет тормозят… Давайте привяжемся.
В гамаке Маршан всеми силами сражался с очередной волной ускорения. Но это было что-то иное и куда хуже.
Словно какая-то мясорубка перемалывала его сердце и сухожилия, а потом выплевывала их в виде странных изуродованных форм.
Словно давильный пресс сжимал его горло, сплющивал сердце.
Словно его прокатило по американским горкам или швыряло в маленьком суденышке во время тайфуна, и теперь он испытывал головокружение и тошноту. Но что бы это ни было, звезды на курсовых картах медленно скользили и перемещались в новое положение.
Маршан, чьи мысли полностью занимал самый жестокий из всех приступов мигрени за всю его почти столетнюю жизнь, с трудом воспринимал происходящее, но знал, что через несколько часов они обнаружат «Тихо Браге», уже тридцать лет как бороздивший звездное небо.
Капитан «Тихо Браге» оказался седеющим шимпанзе с желтыми клыками по имени Лафкадио, его карие глазки были прикрыты, а жилистые руки все еще дрожали от шока после внезапно появившегося звездолета — звездолета — и людей.
Маршан заметил, что он не может отвести взгляда от Эйзеля. Уже тридцать лет капитан пребывал в теле обезьяны. И теперь это была постаревшая обезьяна. Лафкадио, наверное, думает о себе больше как об обезьяне, человеческим остались только его воспоминания, которые становились все более и более смутными, когда на них ежедневно накладывались память о покрытых шерстью руках и цепких косолапых ногах. Маршан и сам уже ощущал, как разум обезьяны возвращает себе власть над телом, прокрадывается потихоньку, хотя и знал, что это просто ему кажется.
А может, и не кажется? Ведь Аза Черны говорил ему, что пересадка может оказаться неустойчивой — что-то, связанное с фосфолипидами, — он не мог сейчас вспомнить. По правде говоря, он не мог ясно и уверенно припомнить все, что хотел, и вовсе не потому, что у него был разум девяностошестилетнего старика.