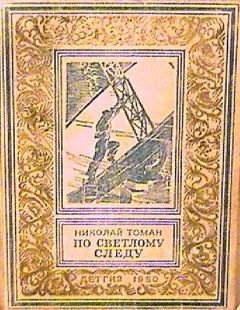Николай Лукин - Судьба открытия
Рядом с Шаповаловым было ее маленькое, слегка прикрытое прядью темно-русых волос ухо. Ее лицо точно сияло в свете далеких фонарей. Она ему теперь бесконечно мила, в то же время он чувствует ее недосягаемое превосходство над собой и ужасно боится ее потерять.
И ему подумалось: заслужить право быть возле нее — для него означает преодолеть огромную дистанцию, очень много поработать над своим развитием, очень многое прочесть. Он должен стать с ней вровень. Упорства у него достаточно. Хватило бы только ума!
Он узнал, что на каникулы она приехала домой, к отцу. А ее отец — бухгалтер на рыбном комбинате, известный всему городу как любитель и знаток боспорских древностей. В Керчи ими пронизан любой клочок земли.
— Поэтому и я студент-историк по греческой культуре, — сказала Вера. И наконец спросила: — А вы занимаетесь химией?
Взвешивая каждое слово, Шаповалов неторопливо ответил:
— Химик-то я пока еще в мечтах. Сам занимаюсь, читаю кое-что. Но я рабфак окончил и нынче осенью поступлю на химический факультет. Это мое твердое намерение.
Оба они повернулись к морю. На темной глади бухты отражаются звезды и далекие огни Таманского берега.
Шаповалову и радостно и тревожно почему-то.
Он взял Веру за руку — она руки не отняла.
— Вы мне позволите учиться по соседству с вами? — прошептал он, глядя ей в лицо. — Позволите поехать к вам, в Москву? Я хочу быть возле вас. Встречать вас почаще…
С минуту перед ним ничего не было, кроме ее глаз. Они смотрели на него внимательно, карие, разумные.
Затем в них вспыхнула искорка. Они становятся как-то проще, ближе и все теплее и теплее. Его тревога отступает.
И вот глаза уже улыбаются ему.
— В Москву учиться? Ну, приезжайте, что ж… Я вам позволяю, Петя!
Глава II. Встреча
Нельзя сказать, чтобы жизнь Григория Ивановича Зберовского все эти годы была радостна и богата событиями.
Из госпиталя — уже после Октябрьской революции — он отправился в Московский Совет депутатов. Там его выслушали. По его просьбе написали бумагу, послали преподавать химию в одно из московских инженерных учебных заведений.
Однако работа здесь оказалась совсем не такой, как он ждал. Институт влачил какое-то жалкое существование. В нетопленных зданиях института остро ощущалась всеобщая разруха. Профессора ходили в шубах и злопыхательски перешептывались.
Когда Зберовский попытался говорить об опытах по получению крахмала из клетчатки, начальство института только усмехнулось в ответ.
Шеф Зберовского, заведующий кафедрой профессор Святомыслов, все иронизировал над ним под маской добродушной шутки, все кивал на то, что Григорий Иванович прислан в институт именно из Совета депутатов — словно в этом было нечто недостойное: «Вот наш дорогой товарищ из Совдепа…»
На первых порах им как бы вообще пренебрегали. Он изредка вел со студентами несложные практические занятия. И лишь следующей осенью, по случаю чьей-то болезни, ему было поручено прочитать несколько лекций.
Лекции Зберовского понравились. Даже профессор Святомыслов промямлил в похвалу: «М-мда… Все же Сапогова ученик, самого Георгия Евгеньевича, как ни говорите!..»
Но Зберовского в краску бросало, если его имя произносили рядом с именем Сапогова.
Еще летом прошлого, семнадцатого года он возненавидел своего бывшего учителя. А разговор их, состоявшийся в госпитале, не был завершен по-настоящему: того, что Зберовский крикнул с лестничной площадки, Сапогов не услышал. Результатом этого явилось письмо, полученное Зберовским в октябре семнадцатого года. Письмо было напечатано на бланке министра торговли и промышленности доживавшего тогда последние дни Временного правительства. Ссылаясь на его устное согласие, данное профессору Сапогову, министр назначил Зберовского младшим консультантом министерства по вопросу химии древесины.
Резкий протест, посланный Григорием Ивановичем, уже не мог дойти по адресу: Временное правительство было свергнуто, министры арестованы. Потом Григорию Ивановичу стало известно, что Сапогов бежал за границу и пишет там в эмигрантских газетах, призывает к походу против Советской России.
И сейчас Зберовского мучит ощущение, будто он с позиций окружающих его людей выглядит чем-то вроде сообщника Сапогова, точно он — по собственной неосторожности и недомыслию — ухитрился скомпрометировать и запятнать себя.
Шла гражданская война. Москва жила сурово, голодно.
Григорий Иванович поселился в неуютной комнате пустующей квартиры. Ежедневно многие часы он проводил в библиотеках. Вечерами оттуда шел иногда не прямо домой, а делал крюк по городу, чтобы зайти в одно из студенческих общежитий. Друзей в Москве у него не было, а ему хотелось побыть с молодежью.
Часто, идя сюда, он вспоминал петербургскую мансарду. Входил в общежитие, тяжело опираясь на палку, с какой-то грустной улыбкой в голубых глазах.
А этим, здесь, было по восемнадцать и по двадцать лет. Увидев Зберовского, они вдруг становились очень сдержанными, предлагали ему стул, выжидательно смотрели на него и молчали.
О чем он ни примется беседовать — о философии Декарта и научном познании мира, о боях на колчаковском фронте и стремлении Антанты расчленить Россию, о своих прежних, теперь потерянных бесследно земляках-нижегородцах, о железной печке в своей комнате, которую он будет сегодня топить перилами лестницы, ведущей на чердак, — все сказанное им не вызывало у студентов в общежитии ни споров, ни расспросов. Они незаметно расходились, переговариваясь между собой вполголоса.
Уходя, Зберовский чувствовал себя обиженным. Однако, забывая об обиде, спустя неделю-две он снова появлялся в общежитии. Выкладывал что-то о себе; пытался вникнуть в интересы молодежи. Но едва он начинал расспрашивать о скрытых от него подробностях комсомольской жизни — вокруг него опять возникала пустота.
Впрочем, дружба со студентами в конце концов наладилась. Пришла она гораздо позже — на третьем, на четвертом году его работы в институте, когда Григорий Иванович уже пользовался репутацией хорошего преподавателя. За это время и состав студентов изменился: кто успел окончить институт, а многие из общежития, отказавшись от учебы, уехали на фронт.
Еще в период жестокой разрухи он продолжал обдумывать идею химического превращения клетчатки в сахарозу и крахмал.
Случалось, он по вечерам задерживался в здании института. Оставался в учебной лаборатории один. А лаборатория эта была вовсе непригодна для тех тонких, кропотливых исследований, о которых он давно мечтает. Но тем не менее ему уж очень хотелось проделать хоть несколько опытов, убедиться в правильности своих главных предпосылок.