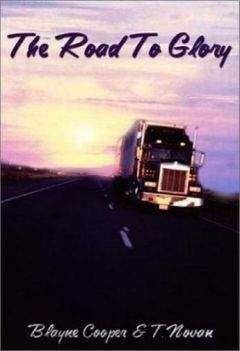Люциус Шепард - По направлению к Глори
Это его насторожило, но он все же согласился:
— Да, конечно.
— Те, что пришли с тобой, хотели убить нас. Но верзила просил нас о чем-то. То есть не просто вошел и начал крушить кости. Чего он просил?
— Я не знаю.
Но ты сказал, что притворялся одним из них. Ты должен знать их язык.
Он открыл рот, снова закрыл, явно смущенный.
Я поразмыслил об этой женщине, которую ты схватил. Почему она такая подлая. Я так понимаю, что она боится самой себя, ненавидит себя за то, что она такая жирная и никому не нужная. Все, что ей остается делать, это раскатывать на этом чертовом поезде туда и обратно. Но она не может ненавидеть себя с достаточной силой, поэтому переносит ненависть на других. По сути, до нас ей дела нет. А себе навредить — духа не хватает. Понимаешь меня?
— Да ты совсем спятил. — Крисп неуверенно оглядел остальных, ища поддержки. — Чего ты добиваешься?
— Итак, ты забрался в вагон с двумя другими и выдал их нам. Ты сказал нам, что всегда планировал сделать это, что просто ловчил. Они, сказал ты, собирались нас прикончить. Но ты и их обманул — ты боялся.
— А чего ты хотел? Чтобы я позволил им убить вас?
— Ты бы сделал все что угодно, лишь бы выбраться из Полосы. Ты был другой, не из них. Ты так стремился вырваться, что ни о чем другом и думать не мог от страха. Но оставшись с нами, ты почувствовал, что и к нам ты не принадлежишь, что остался чужим. Нас ты тоже боялся. А чтобы доказать, что ты с нами, ты помог нам, предав тех, с кем пришел, чтобы спасти наши жизни. Как ты сказал «…просто ловчил».
— Нет, — сказал Крисп, — это не так.
— И ты стал себя ненавидеть за предательство, но поскольку ты не можешь достаточно возненавидеть себя, ты выбрал Мэри. Ненавидеть легко, но если разобраться, то, что делает она, ничем не отличается от того, что сделал ты, не так ли?
Крисп обмяк. Он выглядел побежденным.
— Ты еще не понял, — спросил я, — что нигде в этом мире не будешь чувствовать себя как дома? А если ты убьешь эту жалкую женщину, очень похожую на тебя, будет только хуже.
— Пусть так!
— О чем просил верзила?
— Ни о чем… я не знаю.
— Что он просил?
Крисп заорал:
— Я не знаю!
— Что ему было нужно? Пища, да? Лекарства? Топливо?
Он резко качнул головой, будто пытаясь избавиться от какой-то мысли; казалось, он не может решить, улыбнуться ли ему мне или зарычать. Его голова, похожая на фонарь из гнилой тыквы, мотнулась так, что едва не слетела с шеи.
— Можешь не говорить, — сказал я. — Не знаю, чего он хотел, но уж точно не кровопролития.
У Криспа вырвался ужасный стон, полный боли и отвращения.
— Помощи, вот чего он хотел, — сказал я. — Он не слишком верил в успех, но все же попросил о чем-то, надеясь, что у меня хватит ума понять его.
Коротышка оттолкнул Мэри и с искаженным лицом повернулся ко мне, раскачиваясь в такт неровному движению поезда, выставив перед собой нож.
Я спокойно и размеренно сказал:
— И это тебе не поможет.
Он замахнулся на меня ножом, в его помятом неуверенном лице читалась готовность нанести удар. Как и я чуть раньше, он утратил осторожность.
— Что бы ты не совершил, твои поступки ничуть не хуже наших. Все мы состоим из добра и зла. Ты, может быть, плохо обошелся со своими компаньонами, но зато спас одну жизнь в этом вагоне. Никто тут не собирается тебя обвинять. Но нельзя убивать людей просто из-за того, что у тебя паршиво на душе. Подумай об этом.
Казалось, он в самом деле задумался, но в голове у него слишком все перемешалось, слишком много он пережил, чтобы нормально соображать. Я чуть расслабился, надеясь на его разум. И тут он кинулся. Я не успел среагировать и принял удар предплечьем. Скрипнул зубами от боли и попытался схватить, но он вырвался и кинулся к двери. Он стоял между вагонами — бледная тень Криспа у поручня. Поезд летел во весь опор, я понял намерения Крепа и знал, что у него нет ни единого шанса. Но поскольку я больше не был за него в ответе, то лишь наблюдал и ждал. Он помедлил, бросив взгляд назад в наш вагон. Я почувствовал его тоску, тяжесть боли, все разрушительное действие того, что он узнал о себе. Потом он перемахнул через поручень и исчез в черноте ночи. Если он и кричал, то крик его потерялся в грохоте нашего поезда.
Я уныло уселся возле Коула, не обращая внимания на шум в конце вагона. Мэри рыдала, фермеры говорили все разом.
— Не очень ладно теперь у тебя вышло, — Коул передал мне бурбон.
Я сделал глоток и начал перевязывать руку.
— Ничуть не хуже, чем у тебя со мной, — сказал я ему.
Мы въезжали в густой лес, и все, что я мог увидеть на великой равнине сквозь зазубренные силуэты елей, — неровное поблескивание серебристой воды и неземной огонь. Я закончил перевязку, хлебнул еще немного и откинулся назад.
— Теперь все будет в порядке? — спросил я. — Мы выбрались?
Коул сказал:
— Похоже на то, — и забрал свой бурбон.
Спустя некоторое время он поинтересовался, что я собираюсь делать дальше.
Я засмеялся:
— Я все-таки намерен достичь Глори.
Он уклончиво хмыкнул и хлебнул из бутыли.
— Ничего себе поездочка, — сказал я.
Я глянул вдоль вагона на засохшую кровь и фермеров, на Мэри, огромную, расстроенную, закутавшуюся в пальто. Несмотря ни на что, я не чувствовал к ней ненависти. Все мои чувства сгорели, душа была гулкой и пустой. Я дрожал, но не от холода. Это меня покидали последние остатки эмоций.
«Трейси» — подумал я, но даже это не вызвало никаких чувств.
— Что теперь делать? — спросил я. Что нам остается?
— Развернуться и ехать обратно — все, что я могу предложить, — сказал Коул.
Я снял комнату в Глори. Она была крошечная, скособоченная, с покатыми стенами и потолком, холодная как могила. Из окна я видел ветхие здания, неровные дороги, покрытые ледяной коркой. Днем колдобины прорезали следы полозьев; женщины в шерстяных платках и длинных юбках спешили мимо; мужчины поднимали и сгружали бочки с гвоздями, тюки соломы и мешки с зерном, сидели в салунах за выпивкой; дети гонялись друг за другом, ныряя под лошадьми и фургонами и швыряясь снежками. Ночи… в них была какая-то дикость — тихая музыка, выстрелы, женские крики — но не так как в Белом Орле. Пробыв здесь несколько дней, я понял, что любой город, который я знал, можно назвать Глори — так они все были похожи.
Тут, конечно, были беженцы. Они спали в проходах и подъездах — везде, лишь бы было потемнее, это давало шанс провести ночь без побоев. Никто не желал, чтобы они здесь ошивались, со своими причудами и физическими уродствами, но их терпели, — наверное, так проявлялись у здешних христианские позывы. Я сидел у окна, наблюдал, как они снуют взад-вперед, и удивлялся, почему я не один из них. Я не стал утруждать себя поисками друзей, чтобы занять у них денег. Это был наш с Трейси план, но даже будь она здесь, я не стал бы этим заниматься. Я изменился, все мои прежние представления потеряли смысл. Вместо этого я устроился в салун разнорабочим. Денег вполне хватало на еду и кров, а также и на то, чтобы время от времени приводить женщину в свою комнатенку. Женщины делали меня счастливым, но ненадолго. Как только они уходили, я не зажигая света становился у окна и подглядывал, как течет жизнь. Я представлял себе тысячи вещей, которых бы желал, но ничем не хотелось мне обладать так, чтобы схватить, откусить кусок и смеяться от радости утоленного желания. Я был пуст, как в начале путешествия из Белого Орла. Глядя на себя в зеркало, я видел человека, бегущего от самого себя, в котором росли боль и слабость.