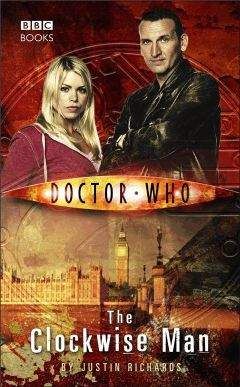Вячеслав Рыбаков - Гравилет «Цесаревич». Фантастические произведения
Мир отлетел, цепляясь за взгляд то изгибом ослепительной речки, проплавившей путь среди зеленых холмов, то бархатным склоном оврага, то ранним костром клена, полыхнувшим вдруг среди летних еще берез. Не цеплялось. Все пропадало, утопало бесследно во мгле позади.
Дима успел выяснить, что Рессел рассмотрел также несколько альтернативных эволюционных треков на диаграмме Герцшпрунга-Рессела, что поляризованный свет Крабовидной туманности представляет собой синхронное излучение, а также еще несколько столь же неважных, но почему-то интересных и, как бы это сказать, несуетных вещей. Потом дверь в вагон мягко отворилась. Дима поднял голову. Златовласка обворожительно розовела.
– А я и не думала, что здесь есть, где сидеть, – объявила она.
– Есть, – ответил Дима. Сердце билось как-то чаще.
– Я решила, что вы могли заскучать. А что вы читаете?
– Да так, – Дима смутился. – Листаю, время убиваю…
Он попытался спрятать книгу, но она уже заметила название и очевидно восхитилась.
– Как интересно! Вы астроном?
– Да нет, что вы! – Дима даже покраснел. – Маляр. То есть, учусь на маляра.
– Кто? – не поняла.
– Ну… то есть, художник… – А какой я, к бесу, художник, подумал он. – То есть, учусь на художника… – А разве можно научиться быть художником? Тьфу, черт!
Совсем с ума сошел! Двух слов связать не могу. Что это я так разволновался? А потому что она мне нравится. Да что же это я, развратник, что ли? Развратник-девственник. Златовласка была такая чистенькая, такая ладненькая, что до одури хотелось ее коснуться. Но так, поодаль, было тоже хорошо – любоваться можно. Дима еще в школе понял, что, стоя рядом или, тем более, целуясь, страшно много теряешь – ничего не видно, только лицо или даже только часть лица. Обидно, и выхода никакого. Ведь это должно быть невероятно красиво, завораживающе, как северное сияние – видеть со стороны девушку, которую сейчас вот целуешь и чувствуешь. Либо чувствовать, либо видеть. Принцип неопределенности. Гейзенберг чертов. Про штучки с зеркалами Дима понятия не имел – на Евиной лестнице не было зеркал, только вонючие бачки для пищевых отходов. Но, вероятно, и зеркала бы ему не подошли. Он предпочел бы спокойно сидеть поодаль, глядя на себя и свою девушку – и, скорее всего, с карандашом и блокнотом в руках.
Златовласка прикрыла дверь в вагон. Ее движения были застенчивы и вкрадчивы.
– А почему без бороды? – спросила она.
– А почему с бородой?
– Я думала, все художники с бородами.
– Да нет, – он встал, придерживая рвущееся к стене сиденье. – Садитесь.
– Ой, нет, я насиделась, спасибо!
Сиденье с лязгом ударило в стену.
– Я тоже насиделся, – сообщил Дима. – Кстати, я попробовал тут… в меру способностей, – он достал блокнот. – Показать?
– Конечно! – она взяла, коснувшись Диминых пальцев своими. У него упало сердце, дыхание сбилось. Она старательно стала рассматривать, чуть сдвинув брови от усердия. Чистый лобик прочеркнули две маленькие морщинки.
– Здорово, – сказала она, отдавая блокнот. – Правда, я себя не такой представляла…
– Так поезд же трясет! – покаянно сказал Дима. Она засмеялась. – А ты где учишься?
– Ой, что вы! Я только школу кончила.
– И как кончила?
Она смутилась и известила его с тихой гордостью:
– У меня медаль.
– Это ж надо, с кем свела судьба! – искренне восхитился Дима. – А я тройбаны хватал, только так… куда поступаешь?
– Еще не знаю. Решила год подождать, осмотреться. К брату вот ездила, в МИМО.
– Разве в Москве было такое солнечное лето?
– Ой, нет, почему?
– Посмотри на себя.
Она, порозовев опять, послушно оглядела руки, голые до плеч, потом нагнулась и посмотрела на ноги. Диме показалось, она рада поводу посмотреть на себя и делает это с удовольствием. Нежная кожа северянки была облита загаром.
– Я на юге была. Месяц в Крыму и три недели на Кавказе. Там так интересно!
– Кайф какой! Не долговато, нет? Ты не устала?
– От чего?
– Н-ну… я был как-то раз – народищу до беса, очереди, спишь в клопоморнике, ни встать, ни сесть…
– Да я же не дикушкой, что вы!
– Даже так?
– Конечно. В Гурзуфе – в санатории МО, папа с нами там последние десять лет отдыхал каждое лето, так что меня приняли за родную. А в Новом Афоне – с подружкой. У нее мама какой-то босс, выбила путевки. Так что было хорошо.
– Завидую…
– Надоедает солнце, конечно, под конец и купаться не тянет. Зато действительно отдохнула – а то так вымоталась в школе. Зубришь, зубришь… Как это мальчишки должны обязательно сразу поступить, ума не приложу! Не пожить совсем!
– Зато все еще в голове.
– Ой, у меня все назавтра после экзамена выветривается… А знаете, мне астрономия в школе нравилась!
– А я терпеть не мог. Там она… земная. Неба не чувствуешь. Бездны этой ночной, умопомрачительной…
– Как вы интересно говорите! – слово «интересно», видимо, было у нее любимым, вылетало то и дело. – А что тут пишут! – она легонько указала на «Астрономию».
– Много чего, – Дима пожал плечами и улыбнулся. – Вот, например, установили наконец, что поляризованный свет Крабовидной туманности представляет собой синхронное излучение.
– Правда? – искренне изумилась она, словно давно имела по этому поводу свое мнение, отличное от изложенного Димой. Он кивнул с серьезным видом.
– Здесь прекрасные фотографии. Вот… Квинтет Стефана.
Она усердно всмотрелась.
– Красивенькие. А наша Галактика тут есть?
– Н-ну, – Дима опешил, – ясно дело, нет. Кто ж ее мог со…
– Ой, правда! – она ужасно покраснела.
– Но есть снимки галактик, аналогичных нашей. Вот.
– Да, – сказала она, всмотревшись, – это было в учебнике, – взглянула на соседнюю страницу. – Ой, как похож на нашего соседа в пансионате! Ухаживать еще пытался… Хаббл, – прочитала она. – Нет.
– Хаббл открыл закономерность между скоростями удаления галактик и расстояниями до них, – немного коряво от поспешности пояснил Дима.
– Правда? – восхитилась она и подняла чистые глаза. Кажется, ей действительно нравится, с восторгом подумал Дима. Что, напарник, съел?
Он начал вылавливать, что помнил, про красное смещение и поправки к Хабблу, перескочил на Леметрову теорию первоначального яйца, помянул Гамова, счел своим долгом отметить существование контртеории Бонди-Хойла, пригласил посмеяться над забавным выражением «ведро пространства»… Господи, думал он. Тебе не скучно, Златовласка? Ведь не скучно, да? Она с готовностью посмеялась. Внимала. Великолепные глаза распахнуты широко-широко. Она была, как Жанетка Фременкур – глаза и губы. И чудный медовый загар, и грациозная фигурка… Он говорил. Странно, думал он, почему я так люблю это, а от искусствоведения, например, меня воротит? Если б она меня спросила про художников или про картины – мямлил бы, как на экзамене, не интересны они мне. А то, что я говорю, мне интересно? Не по старой памяти? Тоже как-то… Сам уже думаю иногда: зачем вся эта дребедень?.. А ведь было, было же время, когда ночей не спал, обалдело пытаясь представить: а что там, куда галактики, метагалактики, вообще материя, исторгнутая взрывом илема, еще не долетела? И ведь прошло с той поры лет пять, ну – шесть… Вдруг – художник. Какой там художник, я просто бездарь, я ничего не умею, а рисовать умею меньше, чем что-либо еще, но господи, я ни секунды не думал, что это настоящее дело! Я не могу не рисовать, то и дело хочется, но это просто чтоб не сдохнуть от одиночества: я рисую – как будто письма пишу, как будто мостики навожу между собой и остальными, трепотней мостика не наведешь, душу не зацепишь… А, ерунда! Какими там другими? Между собой и Ею, вот и все. Сейчас же треплюсь, и все нормально… А Ей не нравится, она оценивает это просто как картину или рисунок, а не как письмо, и начинает разбирать: цвет неестественен, перспектива гнутая… Какая путаница! Златовласка, тебе нравится?