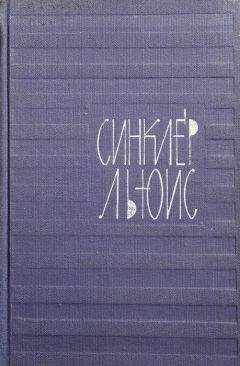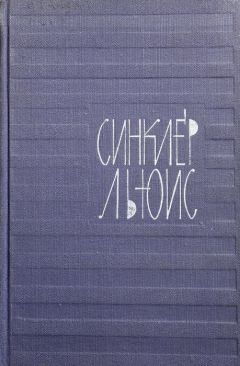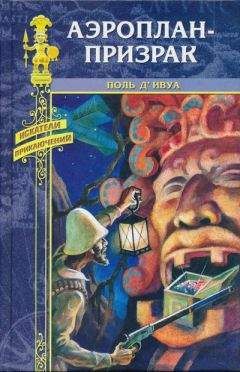Вивиан Итин - Каан-Кэрэдэ
Рос жаркий июньский день. С юга, из среднеазиатских пустынь, как из крематория, дышал сухой знойный ветер. «Исследователь» летел навстречу зною. После трех остановок, отчаянной «болтовни», жары, жажды, водки, просьб остаться, «покатать» еще, — экипаж юнкерса обнаружил, что у него не головы, а стальные цилиндры, где под давлением множества атмосфер непрерывно взрывается горючая смесь. — «Что это Туркестан?» — жаловался Нестягин. Он не мог отказаться ни от галстуха, ни от непромокаемого плаща, ни от погони за осквернителями священной территории аэродрома. — «Это против моих убеждений, Семен Семеныч, но как же иначе?» — уныло повторял он. — «Вот, несовершенства ради человеческого и существует она, — власть!», — с грубоватым партпревосходством подсмеивался Бочаров и прибавлял: — «А мне тоже, что-то того… Показалось вот, будто эта самая, Лидка, здесь. Почему? С чего?.. Жара». Перед отлетом в Алаш, рубцовские авиахимики соблазнили Нестягина холодным душем, он ушел в железнодорожную баню. Бочаров ждал и ругался два часа, пошел сам, видит: механик сидит голый, на него льется вода, спит. — «Пора! пора!» — закричал Авиахим. — «Как? что такое?» — забормотал железный доктор. — «Нет, рассчитывайте меня: это не механик, который спит». — Потом, у мотора, он долго не мог найти нужного ключа. Ключ нашелся в углу, под медведем. Было поздно. Мотор не запускался. Но, от гнева и упрямства, Бронев все-таки вылетел — в сумерки.
До Алаша было 130 верст, аэроплан летел против ветра, летел целый час. Внизу была степь, геометрические линии оросительных каналов и опять — степь, пустынная, как небо. Сгорали угли заката. Ночь юга шагала, словно марсиане Уэлльса. Черный дым туч навис над черным дном. Город был в желтых звездах огней, в черных зеркалах Иртыша, в черных зарослях карагачей. На аэродроме пылали громадные «ночные костры». Пламя выхватывало черные струи толп. Нестягин начертил в воздухе виселицу — «телеграфные столбы». Бронев кивнул. Аэроплан пошел на посадку. Тьма. Молнии. Азиатская пыль.
Толпа внизу бесшумно разваливалась, точно карточные солдатики, от неслышного вихря. Аэроплан коснулся земли у линии костров. Их пламя вздымалось вверх, к зениту. Они промчались мимо, как библейские столбы. Грунт был мягкий, песчаный. Аэроплан мягко подпрыгивал, мчался вперед, в пыльную муть. Бронев держал руль прямо. Вдруг впереди метнулась толпа. Бронев остановил пропеллер: на месте схлынувшей толпы — мороженщик со своей тележкой и силуэт двугорбого верблюда, запряженного в арбу. Миг — и не стало ни мороженщика, ни верблюда, ни арбы. Правое крыло взлетело, — глухой треск, — аэроплан перекачнулся, — зарылся в песок. Рули поднялись к небу, как вопль.
— Так… разумеется… телега, — сказал Бронев.
Нестягин скатился вниз, обежал самолет, кричал:
— Все цело, все цело! Только болт! болт!
Гул и пыль и черные орущие тени.
— Летчики-то, летчики-то: насмерть! — повизгивала баба.
Бочаров, ошалев от встряски, схватил ее и поволок «за распространение ложных слухов», но увидев начальника милиции, бросил бабу, принялся ругать милицию. Бронев оттащил его к самолету. Под крылом, на деревянных обломках арбы, в шубе и малахае, неподвижно лежал киргиз.
— Убили, ведь, черта, убили! — наклонился пилот. Потная муть мира стала просачиваться в его череп.
В темноте, оттесняя толпу, комсомольцы запели свою «Молодую Гвардию». Мертвец сел, перевернулся на четвереньки и нырнул в ночь. Помятый верблюд захромал за хозяином. Тогда Нестягин протянул руку в разорванную обшивку крыла.
— Лон-же-рон… — выговорил механик.
Одна из цельнотянутых дюралюминиевых труб, на которых держатся несущие поверхности, была сломана. Восстановить ее, в таком городе, было невозможно.
— Как же теперь?… товарищ Нестягин!.. Ермошка… — заволновался Бронев.
Они стояли, держа друг друга за руки. Железный доктор сжалился.
— Ну, как-нибудь… сделаем надставку из железной трубы… Это можно… Найдется, наверно, труба… Только, чур: сегодня выспаться!
Бронев сказал, что будет работать вместе, что всегда будет помогать, что никак-никак он не может пропустить Ермошку.
Вдруг он услышал вой забытого медвежонка и в медвежьем вое другой, высокий, женский. Бронев метнулся в аэроплан, убрал спинку задних сидений, отделявшую багажник…
— Жив! Андрюша! Что случилось! — кинулась к нему девушка. Она вся тряслась мелкой нервной дрожью, плакала.
— Ну, что ты, дура? Ну, перестань, дура. Эх, дура! — ласково утешал пилот.
Медвежонок, от нетерпенья, подгребал авиахимовские листовки. Бронев отвязал его, целуя балеринку, сказал:
— Подержи, милая… Я сейчас.
Медвежонок увлек Лидочку под крыло, к обломкам, заурчал.
— Собаку, собаку возьмите! — истерично закричала дама с гигантской гребенкой. — Кровь! Кровь лижет!
— Извините, сударыня, это не собака, а медведь и не кровь, а мороженое, — сказал Бочаров. — А вы не волнуйтесь: не ваше тут дело.
— Ай, укусит, укусит!..
Бочаров столкнулся с девушкой, державшей медведя. Она отвернулась. Бочаров стал пятиться, тереть лоб, потеть. Нестягин производил комсомольскую мобилизацию, чтобы опрокинуть самолет на хвост. Авиахим обошел аэроплан, забрался по наклонившемуся скользкому крылу в кабинку. Сердце его нехорошо билось. Пилот лежал, свернувшись на коротком кресле, закрыв широкой грязной рукой глаза.
Бочаров присел рядом, на корточки.
— Слышь, — сказал он тихонько. — Я долетался до чертиков. Я опять увидел твою Лидку.
Под синей ясностью — весь нижний мир. Гигантский горизонт — остывшая морская сказка. Ясные кряжи белков.
Позади остались орды кочевников, крик верблюдов, раскосые глаза, блестевшие ужасом и восхищением… и весь запас покрышек, изодранных о лошадиные челюсти при посадке в Кобдо. Немец, начальник участка, был не виноват: кости натаскали монгольские волкодавы.
Змеиное тело Табык-Богдоула скрылось за правым крылом. Еще несколько минут свирепого натиска двенадцати лопастей и внизу будет новая часть света — Россия.
Эрмий Бронев улыбался. Впереди был Алтай, последнее препятствие на пути их триумфальной прогулки. Эрмий взглянул на капитана Левберга, сидевшего рядом, за параллельным управлением. Капитан откусывал кончик сигары, лениво поглядывая в синь. Он был уверен в моторах, как в своем сердце. Стрелка альтиметра поднималась над цифрой 4, — 4000 метров. Винто-моторная группа аэроплана была рассчитана приблизительно на такую же высоту. Грудь жадно глотала редчайшую морозную свежесть.
Солнце, плывшее низко над восточными хребтами, еще не утратило пламенного цвета утра. В лиловых и голубых волнах, как позолоченные рога, вздымались вершины Белухи. Их зеркальные снега резко выбрасывались над кривой Катунских гор, подобно оледеневшей пене древней титанической бури. Внизу, по краю замасленного кожаного борта, медленно текла зеленая бездна. Редкие оранжево-розовые облака жались к синим и сияющим вершинам, словно развеянные клочья одной и той же дымчатой субстанции мира.