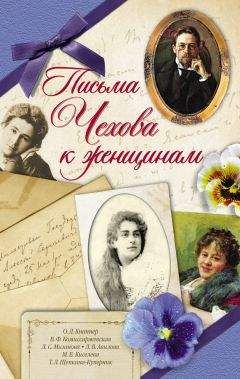Сергей Званцев - Были давние и недавние
И, наконец, свидетель, бывший таможенный чиновник Кулаков, уволенный за мздоимство, показал, что Лобода подписывал завещание в его, Кулакова, присутствии, находясь на «одре смерти».
Показание этого свидетеля вывело из себя Араканцева. Он снова, в третий раз, попросил у Епифановича слова и, опершись о пюпитр грудью, с горящими мрачным огнем глазами, воскликнул:
— Я должен заметить суду…
— Подоздите, — строго прервал его Епифанович, — делать замецание суду мозет только государь император и правительствующий сенат. Продолзайте.
Араканцев, спав с тона, продолжал речь.
А через полчаса Епифанович, все это время рассеянно смотревший вдаль и вспоминавший, по-видимому, что-то очень важное, вдруг просиял и воскликнул, снова прерывая Араканцева:
— Делать замецание суду мозет также еще господин министр юстиции! Продолзайте!
Но Араканцев, махнув рукой, грузно опустился на стул.
Суд удалился на совещание и совещался так долго, что у Малянтовича закралось сомнение, о чем он шепотом поведал своим собратьям по защите. Араканцев сидел в полном одиночестве в своем углу, отвернувшись от противников. Лябриссер, толстяк с мешками под глазами, в кокетливой бархатной блузе, нервно сосал мятные лепешки.
К вечеру из совещательной комнаты вышла судебная тройка и объявила решение, весьма огорчившее обе стороны:
«Завещание признать подлинным, но, принимая во внимание, что в самом тексте его имеется распоряжение об оглашении только через год после смерти наследователя, между тем как по закону завещание должно быть предъявлено к исполнению не позже чем через полгода, а также признавая истцов троюродными и, стало быть, ненаследоспособными, в иске братьев Лобода отказать, в притязаниях города тоже отказать, а имущество, оставшееся после смерти Ивана Лободы, объявить выморочным и обратить в доход казны».
Епифанович громко прочел мудреное решение и с торжеством посмотрел поверх очков на притихших адвокатов.
— А, дьябль! — огорчился Лябриссер собственной недогадливостью: подкупив многих, он упустил из виду подмазать Епифановича!..
Дуэль
Савелий Адольфович Гинцберг был магистром фармации.
Если бы он учился не в Юрьевском, а в другом русском университете, ему после трехлетнего курса присвоили бы будничное звание провизора. Но в Юрьевском (Дерптском) университете были в ходу средневековые мантии, дуэли на рапирах и старинные пышные звания. В дипломе (написанном по-латыни) Савелий Адольфович именовался магистром фармацевтических паук. С его прибытием в Таганрог здесь появился первый и последний магистр.
Савелий Адольфович был очень горд доставшимся ему ученым званием и оберегал его от насмешек. Особенно он ожидал их от местных врачей. Врачи прибивали к своим дверям медные дощечки с фамилией и часами приема и именовались все как один — докторами. Доктор медицины — это выше, чем магистр. Но ведь в городе на самом деле не было ни одного доктора медицины, все они — жалкие лекари, ибо именно таково было официальное звание окончившего медицинский факультет! Это — самозванство! А Савелий Адольфович почему-то должен был страдать от заносчивости самозванцев: лекари, именующие себя докторами, смотрели на подлинного магистра сверху вниз — какова наглость!
Приходилось осторожно, исподволь оберегать свое звание от недругов и завистников. Потомок древних ливонских рыцарей-крестоносцев, Савелий Адольфович делал это методически и настойчиво. Он никогда не забывал, что он магистр, и старался по возможности не давать другим забыть об этом.
Увы! Скрепя сердце он вынужден был порой терпеливо сносить шутки самозваных докторов: магистр фармации всецело зависел от их расположения. Дело в том, что ему принадлежала лаборатория медицинских анализов. Правда, помимо этого, магистр был изобретателем. Мыло «Самостирка» и крем против веснушек «Велюр» приготовлялись в его лаборатории по особым рецептам, запатентованным в министерстве. И мыло и крем брезгливые таганрогские дамы покупали туговато, хотя изобретатель, вопреки всем сплетням, пользовался вполне благопристойным сырьем.
Савелий Адольфович жил на тихой Полицейской улице, которой впоследствии присвоили имя Антона Павловича. В описываемые дни Чехов был еще жив: прошло только две недели с того дня, когда он в последний раз побывал в Таганроге.
Накануне отъезда Антона Павловича к нему в гостиницу пришел познакомиться Савелий Адольфович. На нем был новый чесучовый пиджак, рубашка с высоким отложным воротничком и пышный галстук в розовую горошинку. Утром он постригся ежиком, парикмахер придавил его белесые волосы круглой щеткой, жесткой, как каток. Тощее бритое лицо его с глазками цвета балтийской волны выражало любопытство.
— Магистр фармации Гиниберг, — представился он, самоуверенно пожимая руку Чехову («В конце концов, тоже ведь только лекарь!»).
— Савелий Адольфович уверен, что магистр — это почти доктор, — насмешливо заметил присутствовавший тут дерзкий шутник врач Зеленский.
— Это, несомненно, так и есть, — серьезно сказал Чехов.
Вероятно, на том бы и кончилась шутка, но совершенно неожиданно заговорил другой гость — вечно молчавший доктор Иванов. Пепельные усы его зашевелились. Он, к удивлению Зеленского, отрывисто засмеялся и сказал:
— Еще бы!
Этого выпада Гинцберг ему не мог простить. Иванов, молчальник! Заговорила Валаамова ослица!
Андрей Осипович Иванов был человек маленького роста, державшийся необыкновенно прямо. «Точно пол-аршина проглотил», — говорил о нем Зеленский. Личико у Иванова было маленькое, почти наполовину занятое отвислыми пушистыми усами. Пациенты считали его замечательным врачом и даже молчаливость его воспринимали как печать мудрости.
Если бы на страшном суде Иванова спросили, что он делал здесь, на грешной земле, он ответил бы, вероятно:
— Молчал!
Иванов молчал и слушая бесконечные монологи своей говорливой жены, и выписывая рецепты пациентам. А если уж по необходимости приходилось говорить, он произносил одно лишь слово. Только одно!
Тот же Зеленский утверждал, что однажды Андрей Осипович час просидел молча у постели больного, лежавшего в сердечном припадке, и наконец, пощупав пульс, сказал:
— Кончается…
Когда плач и стенания родственников немного унялись, Иванов раздул усы и произнес еще одно слово:
— …припадок!
Стало быть, кончался не больной, а припадок.
И вот этот-то лекаришка унизил, оскорбил подлинного магистра и дворянина, в чьих жилах текла кровь остзейских баронов.