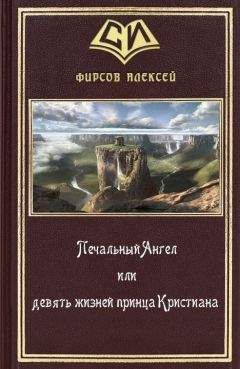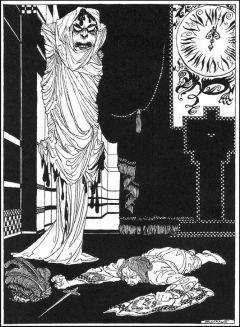Далия Трускиновская - Ксения

Обзор книги Далия Трускиновская - Ксения
Трускиновская Далия
Ксения
Далия Трускиновская
Ксения
пьеса
Действующие лица:
Аксинья Петрова
Андрей Федорович Петров - ее муж, полковник, певчий придворной церкви
Прасковья - домоправительница у Петровых
граф Энский - вельможа сперва елизаветинского, затем петровского и, наконец, екатерининского двора
Отец Василий
Анета
Лизета - театральные танцовщицы
Дуня - горничная Анеты
ангел-хранитель раба Андрея
ангел-хранитель рабы Ксении
Действие первое
Пролог
Панорама старого Санкт-Петербурга, крупная гравюра. Как и почти все питерские панорамы, она являет собой вид на город с реки. И на вполне реальный берег этой нарисованной реки, с обкатанными водой кусками дерева, досками, камнями, выходит непонятное существо - хрупкое, в поношенном и ободранном зеленом кафтане, в обвисшей треуголке, в огромных башмаках с пряжками на босу ногу, сразу не понять - мужчина или женщина. Но, раз уж этот человек зовет себя Андреем Федоровичем, будем и мы его так называть.
Андрей Федорович опускается на колени и, запрокинув голову, звучно произносит молитву.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ. Помяни, Господи, душу рабы твоей Ксении, и прости ей все прегрешения, вольные и невольные, и даруй ей царствие Твое небесное!
Некоторое время он с надеждой глядит в небо. И повторяет молитву несколько громче, даже какой-то скрытой угрозой в голосе.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ. Помяни, Господи, душу рабы твоей Ксении, и прости ей все прегрешения, вольные и невольные, и даруй ей царствие Твое небесное!
Не дождавшись ответа, Андрей Федорович вздыхает и садится на пятки. Сколько хватает рук, он собирает речной мусор, складывает его в горку, тщательно пистраивая всякий кусочек. Вдруг резко оборачивается.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ. Ну, что ты ко мне пристала? Господь питает птиц небесных, а я не хуже птицы. И меня прокормит.
Выходит крупная, повязанная платком женщина - Прасковья, молча становится в стороне, достойно сложив руки под передником. Андрей Федорович отворачивается от нее и обращается к временно пустому месту.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ. О чем вы мне все толкуете? Похоронил я свою Аксиньюшку, мне больше ничего не нужно. Аксиньюшка моя почивает на кладбище, а я, грешный, весь тут, остался молиться за нее.
Там, куда смотрел Андрей Федорович, появляются вельможа в богатом кафтане и священник в сверкающеи одеянии, садятся за неведомо откуда взявшийся шахматный столик, наяинают молча двигать фигуры.
Андрей Федорович отворачивается от этой пары.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ. Ну, какое вам дело до покойницы Ксении! Она вам ничего худого не сделала! Что вы ее всуе поминаете!
Схватив палку, он грозит безмолвным и незримым пока людям. Выходят танцовщицы, Анета с Лизетой и горничная Дуня. Взявшись за руки, танцовщицы проделывают первые движения экзерсиса так, как если бы танцевали менуэт, Дуня стоит рядом с подносом, на котором стаканы с брусничной водой.
Андрей Федорович срывается на крик.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ. Не зовите меня больше Аксиньей! Зовите меня Андреем Федоровичем! Померла моя Аксиньюшка без покаяния, и ее уж схоронили, а я один после нее остался! Весь я здесь! Помяни, Господи, душу рабы твоей Ксении, и прости ей все прегрешения, вольные и невольные, и даруй ей царствие Твое небесное!
Встав с колен, Андрей Федорович забирается на сложенную им горку высотой с табурет и, еле удерживаясь, кричит в голос.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ. Помяни, Господи! Помяни!
Словно бы в ответ ему звучит простенькая мелодия, и не мелодия даже тема расхожей застольной песни, сочиненной господином Сумароковым и исполнявшейся по всему Санкт-Петербургу.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ. И вели им всем звать меня Андреем Федоровичем!
Где-то в непостижимой вышине стоят рядом, взявшись за руки, чуть повернувшись друг к другу, двое - мужчина и женщина. Оба - в ниспадающих белых одеяниях, таких, что скрывают все тело и оставляют доступными взору только лица.
Звучит колокольный радостный трезвон. И его перекрывает густой голос незримого иерея:
- Венчается раб Божий Андрей рабе Божьей Ксении! Венчается раба Божия Ксения рабу Божию Андрею!
Справа и слева от пары возникают два ангела в облачениях, какие мы привыкли видеть их на образах. Белые одеяния, на груди перекрещенные двумя золотыми перевязями, как будто нет другого способа закрепить на плечах крылья, и сами крылья - похожие на трепещущие пучки света.
Ангел-хранитель раба Андрея возносит венец над его головой, ангел-хранитель рабы Ксении возносит венец над ее головой. Свершилось! И гаснет свет, и тают силуэты, и растворяется в небесах колокольный трезвон...
Сцена первая
Сдается мне, что если уж выбирать предметы, свойственные восемнадцатому веку, то один из самых занятных - карета. Та, что стоит на видном месте посреди сценического пространства, возможно, даже не совсем карета, разломана, разорена. Однако огромное заднее колесо с золочеными спицами, и часть разрисованной галантными сценами дверцы с бронзовыми накладными завитками, и спинка сиденья, обтянутая бархатом, и толстые золотые кисти на витых шнурах, и квадратное, переплетом забранное окошечко в задней стенке создают образ роскошного экипажа. А более и ни к чему...
Пейзаж в этом пространстве не обязателен - скорее всего, это классическая перспектива восемнадцатого века с мелкими деталями вдали и большим небом. Однако этот пейзаж каким-то образом проникает в человеческое жилище - или же полосатый диван на кривых ножках, круглый столик, зеркало в резной раме и прочее, необходимое по ходу событий, возникают и исчезают, возникают и исчезают...
Вот и сейчас - угол комнаты образовался. Красный угол - тот, где образа. И край стола, за которым занимается шитьем Прасковья - большая громоздкая женщина с большим неподвижным лицом, повязанная белым платком. Хотя на вид ей малость за тридцать, но всякий скажет - замужем не была и не возьмут, больно дика и сурова. А порой так взглянет - как если бы не в своем уме...
Тут же - подоконник, на который присела Аксинья - молодая, нарядная, в кружевном чепчике, в фишбейном платье - большими букетами по светлому полю.
АКСИНЬЯ. Да что ж это? Ему давно пора домой быть, а все нейдет! Обед давно поспел!
ПРАСКОВЬЯ. Спевка у них. Сам с утра говорил.
АКСИНЬЯ. Спевке и закончиться бы давно пора.
ПРАСКОВЬЯ. Еще говорил, что в концерт его звали, песни господина Сумарокова петь. Должно, сидит у Сумарокова, сговаривается.
АКСИНЬЯ. У Сумарокова? С театральными девками? С танцорками?
ПРАСКОВЬЯ. Да будет тебе, Аксинья Григорьевна. На что ему театральные девки? У него, слава Богу, жена есть...
АКСИНЬЯ. Когда ж это он про концерт говорил? А, Прасковьюшка? Это что-то новое - ты помнишь, а я не помню!
ПРАСКОВЬЯ. Да как я кофей с кухни принесла. Ты, сударыня, с утра все спросонья ворон считаешь. А Андрей Федорович твой все прямо за завтраком обсказал - что в церкви спевка, что сама государыня слушать придет, и с вельможами своими вместе, что потом о концерте сговариваться будут...
АКСИНЬЯ. Да? Вот странно...
ПРАСКОВЬЯ. И меньше бы ты беспокоилась. Твой Андрей Федорович на виду среди всех певчих наилучший, сама государыня его полковничьим чином пожаловала. Ему такая служба от Бога положена - перед самой государыней в ее собственной церкви петь. И ноты им, сказывали, дают переплетенные в серебряные доски - с серебра, значит, поют! А тебе дай волю - ты его к
юбкам своим пришпилишь да и будешь на него денно и нощно глядеть.
АКСИНЬЯ. И вовеки бы не нагляделась! .. И не наслушалась! ..
ПРАСКОВЬЯ. Да уж, ангельский у него голос... Ты куда, сударыня моя, собралась?
АКСИНЬЯ. Наверх, в спальню пойду. Оттуда улицу дальше видать. Там ждать сяду.
Аксинья ушла, и откуда-то сверху раздался ее звонкий голосок:
Успокой смятенный дух
И, крушась, не сгорай!
Не тревожь меня, пастух,
И в свирель не играй!
Мысли все мои к тебе
Всеминутно хотят;
Сердце отнял ты себе,
Очи к сердцу летят!
Прасковья встала из-за стола и подошла к образам. Широко перекрестилась и тяжко вздохнула.
ПРАСКОВЬЯ. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю небесный, Утешителю, Душе истины, иже везде сый и все исполняяй, Сокровище благих и жизни подателю, прииди и вселися в ны и очисти ны от всякой скверны, и спаси, Блаже, души наша...
Но молитва из ее уст делалась все тише, тише, и вдруг непонятно где возник иной голос Прасковьи - не глуховатый, маловыразительный, а живой, звонкий, исполненный подлинной мольбы. Он перекрыл гаснущие слова из молитвослова и даже более того - он затмил собой все, что имелось в этот час вокруг женщины, весь ее мирок и даже образа.
ГОЛОС ПРАСКОВЬИ. Матушка Богородица, да что же это за любовь такая? Смилуйся над ними, Матушка Богородица! Коли любить друг друга меньше будут - может, у них дитя и зародится? Уж как бы я за их младенчиком ходила! С рук бы его не спускала, светика моего! Мне-то уж замуж не собираться, кому я такая нужна... Матушка Богородица, дай хоть их дитя понянчить... А как Андрей Федорович сыночка хочет - сама знаешь, Матушка, и Аксиньюшка бы угомонилась... Пошли им младенчика, Матушка! Что за семья без детей?.. И я бы при деле была. А то соседки уж дурное говорят - будто бы я по хозяину сохну... потому и служу и Петровых за гроши... Одно у них, у дурищ, на уме. Да ты же все видишь, Матушка! .. Ты-то все видишь... За что мне это, Матушка?.. За что?..