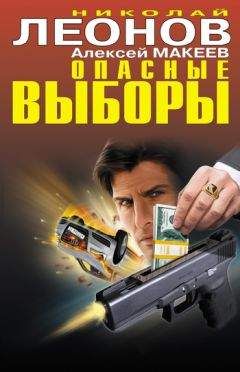Вионор Меретуков - Тринадцатая пуля
Но сначала…
В одних трусах, зажав непокорный протез под мышкой, на здоровой ноге он мягко попрыгал по коридору на кухню.
Было тихо. Коммуналка спала.
Ладонь привычно нашла выключатель. Малюсенькая лампочка, висящая под потолком на перекрученном проводе, залила вялым лунным светом огромную неопрятную кухню, разделив в ней все пространство на тени и полутени.
Саболыч чиркнул спичкой, возжег конфорку и, просветленно улыбаясь, занес над ней деревянную ногу, намереваясь испытать ее огнем, а точнее, нагрев над огнем, выгнуть протез, придав ему требуемую кривизну.
— Ну же, сгибайся, сссука! — шептал, сопя и потея, Саболыч. Но протез был словно заколдован и не желал подчиняться человеческой воле.
Несчастный инвалид чувствовал, что силы покидают его.
Чувство невыносимой деятельной тоски овладело Саболычем.
Безумным и страшным стал его взгляд.
Что-то жуткое, смутное зашевелилось в его героической душе. И именно тогда он решился, как мы уже упоминали, на подвиг.
Поспешно и судорожно Саболыч присобачил горячий протез к культе, перенес на него всю тяжесть своего страдающего тела и со словами "Эх, была — не была!" резким маховым движением поднял здоровую ногу вверх и сунул ее в огонь.
Отупевший от водки и перенесенных страданий, он поначалу не почувствовал боли. Через мгновение он с восторгом увидел, как поверхность ноги празднично заискрилась, и нога затрещала, как березовое полено в печи; в нос экспериментатора шибанула вонь паленой курицы.
— Ага, выпрямляется, проклятая! — удовлетворенно прокряхтел Саболыч, сильно работая руками. — Выпрямля… а-а-а-а!!!
Вопль — мощный, как рев стартующего реактивного бомбардировщика, — потряс ночной покой коммунальной квартиры. Задрожали могучие стены старого дома, казалось, еще немного и он рухнет и погребет под своими обломками его обитателей.
Вероятно, некогда, в лихие средневековые времена, с такой же степенью громкости и отчаяния вопили идейные противники католицизма, к которым у служителей культа имелись серьезные претензии, базировавшиеся на принципиальных разногласиях теологического характера.
И святые отцы церкви в качестве основного и последнего доказательства своей несомненной правоты предъявляли оппонентам чрезвычайно убедительный аргумент в виде божественного очистительного огня.
Терзаемый невыносимой болью, с перекошенным ртом, Саболыч, говорят, прижав руками дымящуюся ногу к животу, как пьяное одноногое привидение, принялся летать по кухне на деревянном протезе, круша чужие кастрюли, сковороды, баки, тазы и корыта.
Грохот поднял он несусветный!
Навоевавшись с неодушевленными предметами, Саболыч на том же чудо-протезе (не выдал-таки, родимый! — говорил потом сам пострадавший) пулей вынесся в коридор, который потихоньку заполнялся выползавшими из своих коммунальных персональных конур зевающими жильцами и, рыдая, затих в могучих объятиях пожарного дяди Феди.
Вот такие истории гуляют по нашему старому арбатскому дому, и некоторые из них я с удовольствием коллекционирую.
К разным ногам Саболыча во дворе привыкли быстро, и теперь многие полагают, что он с такими ногами родился.
Утомленный воспоминаниями, я отхожу от окна.
Как же чудовищно трещит голова! Сказываются печальные и, увы, неизбежные последствия неумеренных — чрезвычайно неумеренных! — возлияний. Как почти всякий настоящий художник, я подвержен порокам: запои из их числа.
И все же, кто мне ответит, зачем я всегда так много пью?..
И потом — Сталин, Кремль, Суворов на картине и серый мужичонка в генеральском мундире, похожий на крупную мышь… Не слишком ли много для одного человека?
За окном вдруг быстро потемнело, посыпал дождь со снегом. Навалилась хмарь — привычная московская декабрьская хмарь, — и от ощущения весны не осталось и следа.
Но любители домино, сквозь стекло я вижу, не уходят и — о, бесстрашные люди! — продолжают, как ни в чем не бывало, о чем-то горячо спорить. До кого, интересно, они теперь добрались? До Пушкина? Чехова? Кому теперь Саболыч перемывает кости? Андрею Битову? Евтушенко? Вознесенскому? Или, может, Бондареву? Или Карпову… Я невольно поеживаюсь…
— Ах, как я не хочу вставать, — услышал я за спиной капризный голосок и от неожиданности вздрогнул. Сияя юной красотой и соблазнительной полнотой, на меня пристально смотрела яркая блондинка, по-хозяйски расположившаяся на кровати. При этом красавица зевала и призывно потягивалась.
Не проронив ни слова, я, шаркая шлепанцами, поплелся в ванную.
Слушая бодрые радиосводки о победоносном для какой-то партии ходе очередной избирательной кампании, я долго брил мятое лицо, с подозрительной брезгливостью разглядывая его в зеркале; я часто ловлю этот свой взгляд, осуждающий, недовольный и напряженный.
Я спрашиваю себя, кто эта девица, каким ветром занесло ее в мою спальню под толстое ватное одеяло? Зачем она так вызывающе и нахально зевает? Где я был вчера?.. Ах, да, об этом я уже думал… И что же мне, несчастному страдальцу, вспоминается?
Да то же, что и всегда. Я, как в омут, по собственной воле или, вернее, из-за отсутствия оной, был затянут в традиционную богемную тусовку с пьянками, кабаками и девками…
О Господи, если Ты есть, избавь мою голову от боли, а если не можешь, то согласен и на саму голову…
Стоя под душем, я делал автоматические движения, которые проделывал многие тысячи раз: намыливался, поливал себя то горячей, то ледяной водой. И делал все это, как бесчувственное, безмозглое животное, не рассуждая, будто это и не я вовсе, а кто-то другой — совершенно неизвестный и чужой.
Мозг просверлила мысль: все, что происходит со мной в данный момент, — все это из дальнего-предальнего прошлого. И толстая красавица под толстым ватным одеялом. И сталинский кабинет с окнами, смотрящими на Кремль. И идиотские радиосводки, и непогода за окном, и яростно конфликтующие доминошники, и вообще все-все-все из прошлого, и будто в этом прошлом я по-настоящему и существую, а настоящее — оно где-то ходит-бродит, но без меня и все время мимо… О, как глубока была эта мысль!..
После душа я долго слонялся по квартире, не зная, чем себя занять, и меня посетила новая мысль — как плохо жить без слуги!
Когда я на кухне замер возле холодильника, ко мне наведалась и третья мысль — мысль-дилемма: выпить или не выпить? И хотя со всей определенностью было ясно, что выпить придется, все же слабое, робкое сомнение на миг посетило меня.
Тасуя мысли как карты, я с удивлением отметил, что в то серое утро каждая новая мысль не наслаивалась на предшествующую, а четко отграничивалась от нее. Этакая выкристаллизованная мысль в чистом виде. Мысль, выпавшая в осадок.
Последняя мысль, освоившись в моей похмельной голове, без задержки породила следующую — главную! — мысль: уж если решил выпить, то зачем канителиться, черт бы меня подрал!
Ах, как же все-таки плохо жить без слуги, подумал я с сожалением, возвращаясь ко второй мысли. Мне уже стало казаться, что у меня всегда был слуга, и я по недоразумению или недосмотру его лишился. Чувство утраты было таким острым, болезненным и реальным, что я, разволновавшись, налил себе полный стакан.
Если вы когда-нибудь поутру на русский манер приводили себя в порядок с помощью водки, вам будет понятно, что героизм опохмеляющегося сродни героизму самых высоких воинских степеней и в то же время подобен безрассудству старого, отходящего от амурных дел сластолюбца, решившего на закате своей бурной сексуальной карьеры в последний раз испытать судьбу в объятиях юной, полной огня и жизни, очаровательной нимфоманки.
Разумеется, опрометчивость старого сатира налицо, да и риск отдать Богу душу уж очень велик, но кто посмеет бросить камень в отчаянного смельчака?
Итак…
Преодолевая отвращение, я вцепился в стакан и резким движением опрокинул содержимое внутрь: испил, так сказать, чашу до дна.
Какой же мерзкий вкус и запах у этого подлого напитка! И как можно называть напитком яд?! На миг показалось, что я проглотил стакан холодной ртути с сивушным духом.
Застыв, как мраморное изваяние, я, боясь пошевельнуться, — не дай Бог, расплещется! — уставился в закопченный кухонный потолок. О, я знал точно — облегчение наступит. А потому ждал, ждал, ждал…
Долго ждал.
И вот оно — сладостное мгновение! Так, уже лучше — можно пошевелить пальцами ног. Можно, пока еще осторожно, но уже с некоторым, почти молодецким, вызовом повести плечами, предварительно осторожно расправив их.