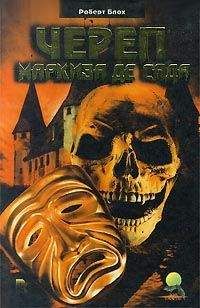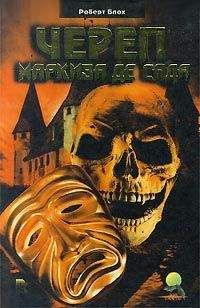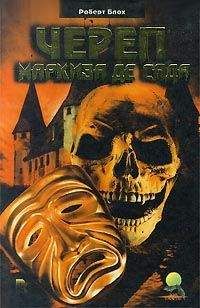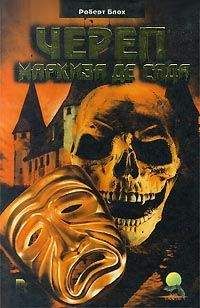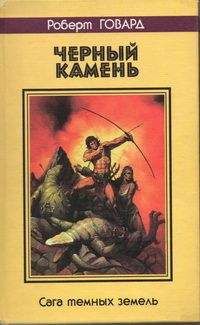М. Джеймс - Город гибели
— Может, я вовсе не актер, — возразил Патрик Ламб.
Мистер Мугиван сплюнул на пол.
— Я дам вам испытательный срок. Как вас зовут?
Патрик назвал себя.
— Хорошо, Ламб, — хозяин встал со стула, отчего тот заскрипел, при этом случайно обнаружилось, что он носил ворсистые шлепанцы и имел шишки на больших пальцах ног, — пойдемте со мной; я покажу вам красоты Мугивана, прежде чем вы уйдете. Можете приступить к работе с завтрашнего утра.
Ламб послушно последовал за своим новым работодателем через турникет, послушно повернутый другим смотрителем, по узкому выбеленному коридору в большой зал.
— Когда-нибудь видели восковые фигуры? — поинтересовался мистер Мугиван.
— Восковые фигуры? Только когда был еще ребенком.
— Зал монархов, — сказал Мугиван, неодобрительно причмокивая языком.
Комната, в которой они оказались, была лишена мебели и напоминала склеп. Ее стены были также побелены, пол покрыт драгетом, а в середине стоял диван, обитый потертым малиновым плюшем. Несмотря на почти полное отсутствие мебели, комната была отнюдь не пустой, а наоборот, переполненной, толпой немых, застывших и безмолвных фигур. Они стояли группами, каждая группа на отдельном помосте, и были отгорожены от публики красным шнурком, который окружал их, как ограда загона — овец, так что, даже если бы они хотели убежать, им все равно пришлось бы навеки остаться здесь. Они стояли и, несомненно, должны были простоять еще много веков, эти мишурные короли и королевы, Плантагенеты и Стюарты, Тюдоры и представители Ганноверской династии, молчаливые и ужасно отстраненные, с бледными щеками и стеклянными глазами, безразличные ко всем, кто проходил мимо и смотрел на них, — сонм мертвых восковых принцев, многие из которых уже были забыты, страшно одинокие в своем кричащем великолепии, жуткие в своем грубом сходстве с живыми людьми, которое, однако, лишало их даже частиц жизни, делая их застывшими, замороженными и смотрящими неподвижным взглядом, в то время как пыль покрывала толстым слоем их дешевые старомодные наряды из малинового бархата и поддельного горностая.
Напротив двери, через которую они вошли, находилась другая дверь, ведущая в следующий зал. Мистер Мугиван шагал впереди.
— Курьезы и ужасы, — беззаботно объявил он. Они прошли через вторую дверь.
За ней была еще одна комната, точная копия первой, но слабее освещенная и наводящая еще большее уныние, чем даже Зал монархов, поскольку подсветка этой тоскливой сцены была зеленоватой, мертвенно-бледной, словно свет исходил от канделябра с болотными гнилушками. Здесь, словно в мрачной пещере, еще более плотными рядами стояли неподвижные невозмутимые фигуры, еще бледнее, чем монархи, и еще более отталкивающие, поскольку их застывшие, безразличные ко всему тела были одеты в повседневную одежду, не имевшую великолепия одеяний принцев, хоть и поддельных. В одном из углов комнаты белел скелет, в другом месте красовались чучело шестиногого быка, крошечный восковой карлик и гигант местного масштаба. Кроме них в зале находились лишь люди, совершившие убийство и понесшие за это наказание, — толпа, неподвижно смотрящая прямо перед собой, с невыразительными, окаменелыми, маскообразными лицами, словно погруженная в тяжкие раздумья о совершенных преступлениях.
Мугиван, казалось, почувствовал себя более уверенно в обстановке второй комнаты. Он стал гораздо разговорчивее.
— Вот Хопкинс, душитель из Норвика… Трейси, застреливший полицейского… Джон Джозеф Гилмор, перерезавший глотку своей жене и двум детям…
Они шли через комнату. И тут, возле узкого оконного проема, пересеченного стальными прутьями, Патрик впервые увидел ее. Она стояла на индивидуальном небольшом помосте, молодая женщина, одетая в облегающее платье старомодного покроя. Она держалась гордо, словно королева, и, в отличие от других фигур, чьи лица не выражали абсолютно ничего, она одна, с гордо поджатыми губами и коротким высокомерным носом, показалась ему живой, возможно, потому, что она олицетворяла собой воплощенную надменность. Она стояла легко и грациозно, ее длинные руки были сложены на груди, и Патрик, смотря на нее, почувствовал на себе спокойный, чуть насмешливый взгляд ее серых глаз. В какое-то мгновение у него в груди екнуло сердце, он слегка испугался и внезапно почувствовал желание подойти поближе и получше рассмотреть ее, потом в его душу закралось чувство странного дискомфорта. Он чувствовал себя растерянным и отвел глаза.
— Кто эта женщина? — импульсивно спросил он, позднее поняв, что спрашивать лучше не стоило.
Мистер Мугиван ответил ему невзначай, повернувшись спиной к фигуре:
— Это миссис Реберн, отравительница… ну, вот и все, пойдем отсюда.
— Миссис Реберн? Мне кажется, я знаю эту фамилию.
— Без сомнения, без сомнения. Одно время она была хорошо известна.
Они ушли в Зал монархов, а Патрик все никак не мог выбросить из головы высокомерный сверлящий взгляд серых глаз, который, как ему казалось, все еще преследовал его. Искусственные глаза искусственной женщины, восковой фигуры! Он чувствовал себя крайне нелепо.
Мистер Мугиван не сказал ничего, пока они вновь не оказались в его маленьком кабинете. Там, угостив Патрика сигаретой, он спросил:
— Вы случайно не впечатлительный человек?
— Впечатлительный? Вы имеете в виду — нервный? Нет, мне так не кажется. А почему вы спросили?
— Здесь не место впечатлительным, — словно выдавая секрет, сказал мистер Мугиван, показав рукой в сторону выставки. — Большую часть времени находишься в полном одиночестве, и если подумаешь, что фигуры смотрят на тебя, то все, с тобой покончено. Последний смотритель пристрастился к фантазиям. Вот почему вы заняли его место.
Патрик чуть было не взбесился.
— Я могу твердо заверить вас, что у меня не будет фантазий, — насмешливо сказал он. — Может быть, я не особенно храбр, скорее наоборот, но должен сказать, что меня не напугаешь кучей восковых кукол.
— Восковые фигуры — это не куклы, — возмущенно поправил его мистер Мугиван.
— Хорошо, фигур, — и подумал: «Если уж говорить о фигурах, то у миссис Реберн фигура очень даже ничего».
Однако ни он, ни мистер Мугиван не упомянули имя женщины вслух.
— Тогда завтра в девять, — сказал мистер Мугиван.
— Завтра в девять.
На этом они расстались.
На следующий день он обнаружил две особенности своей новой работы. Одна заключалась в том, что долгое и зачастую одинокое дежурство рядом с восковыми фигурами порой вызывало у него странное и жутковатое чувство: будто он заживо погребен в склепе, заполненном мертвецами, другая — что с наступлением утра миссис Реберн опять превратилась в восковое изображение, перестав быть живой, дышащей женщиной. Это успокаивало его, но в то же время странным образом расстраивало, поскольку он не мог отрицать, что в течение ночи он часто думал о ней и возможность еще раз встретиться с прямым взглядом ее крайне насмешливых глаз несомненно подталкивала его и гнала по унылым улицам, наполняя душу нетерпеливым жгучим волнением, которое он, правда, без особого энтузиазма, пытался погасить.
Утром он изучал каталог выставки, пытаясь выучить биографические данные многочисленных принцев и убийц. Он привык заучивать наизусть, и через три часа его задача была почти выполнена, за единственным исключением. Странное чувство отвращения не давало ему прочесть в каталоге, даже для себя, краткое изложение преступлений миссис Реберн, не позволяло узнать через посредство абзаца дешевого «слепого» шрифта, что она была скверной женщиной, настоящим чудовищем, воплощением порока и жестокости. Вынув из кармана перочинный нож, он вырезал из каталога весь текст о ее грязных делах. Тем не менее она все утро оставалась безжизненным изображением, и, раз взглянув на него, он с удовлетворением отвернулся.
После обеденного перерыва он вернулся на длительное дневное дежурство. Посетителей было немного: двое школьников в сопровождении тетки, старой девы, две девушки, все время хихикавшие и застенчиво рассматривавшие его, старик и влюбленная парочка, откровенно считавшая его присутствие большим неудобством.
На улице стоял туман; сумерки наступили рано. Впервые за день, когда он ходил по Залу монархов, он почувствовал одиночество своего нынешнего положения. К нему опять вернулось ощущение, что он заживо погребен среди мертвых, усиленное к тому же надоедливой и мрачной меланхолией, в то время как утром к этому примешивалось чувство приключения. Его шаги — единственный звук в безмолвном помещении — мрачно отдавались в ушах. Ему хотелось курить, но это, конечно же, было запрещено.
Наконец он повернулся и, повинуясь внезапному порыву, становившемуся с каждой секундой все сильнее, пошел в дальний зал — Зал курьезов и ужасов. Здесь сумерки придавали мрачный оттенок бледным поблескивающим лицам убийц, поднятым вверх, словно чтобы поприветствовать первых темных и туманных вестников ночи; лица опять стали зеленоватыми, угрюмыми и выражали полную безнадежность беспрекословного смирения с утомительным пребыванием в этой слабо освещенной комнате, дышавшей благородным разрушением.