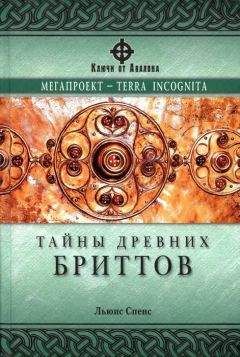Либба Брэй - Прекрасное далеко
— У всех женщин есть тайны.
Я прижимаюсь щекой к его ноге, меня это успокаивает.
— Значит, вполне возможно, что она вела еще и какую-то свою, скрытую жизнь. Может быть, она была цирковым клоуном. Или пиратом.
Я осторожно сглатываю.
— Или чародейкой.
— Ох, я бы сказал, весьма похоже!
Отец выпускает клуб дыма. Дым плывет по комнате, наполняя ее медовым ароматом.
— Да, — продолжаю я, набираясь храбрости. — Чародейкой, которая могла посещать некий тайный мир. И она обладала огромной силой — настолько большой, что сумела передать ее мне, своей единственной дочери.
Отец гладит меня по щеке.
— Действительно, передала.
Сердце начинает биться быстрее. Я могла бы сказать ему. Я могла бы рассказать ему все…
— Отец…
Отец кашляет, кашляет долго.
— Проклятый табак, — говорит он, шаря по карманам в поисках носового платка.
Входит наша экономка, неся бренди для отца, хотя он и не просил об этом.
— Ах, миссис Джонс, — говорит отец, делая глоток. — Вы появляетесь, как ангел милосердия!
— Не желаете ли поужинать, сэр? — спрашивает она.
Отец не ужинал вместе с нами этим вечером. Просто сказал, что не голоден. Но он такой худой, и я надеюсь, что он все же хоть что-нибудь съест.
— Чашку бульона, думаю, если вы будете так любезны.
— Очень хорошо, сэр. Мисс Дойл, ваша бабушка просит вас присоединиться к ней в дневной гостиной.
— Спасибо, — говорю я, и у меня падает сердце.
Я совсем не хочу сейчас видеть бабушку.
Миссис Джонс бесшумно выходит из комнаты, как все слуги, будто даже ее юбка не осмеливается шелестеть, чтобы не привлечь внимания к той, на которой она надета.
Отец поглядывает на свою тетрадь, его лицо покраснело от приступа кашля.
— Джемма, ты что-то еще хотела мне рассказать, малышка?
«Я обладаю силой, отец, — огромной силой, которую даже не начала еще понимать. Это и благословение, и проклятие. И я боюсь, что если ты об этом узнаешь, я уже никогда не буду твоей малышкой».
— Нет, ничего особенного, — говорю я.
— А… Ладно. Тогда иди. Не стоит заставлять бабушку ждать.
Он склоняет голову над письменным столом, сосредоточившись на своих птицах и картах, на заметках о созвездиях, — на всем том, что он наблюдал, записывал, осознавал…
И когда я выхожу из комнаты, он, похоже, этого даже не замечает.
Бабушка сидит в своем любимом кресле, ее пальцы заняты вышивкой, а я пытаюсь построить карточный домик.
— Меня очень огорчило твое поведение сегодня днем, Джемма. А что, если бы тебя увидел кто-нибудь из знакомых? Ты должна думать о репутации — своей собственной и всей семьи.
Я роняю карту, и домик рушится.
— Неужели нам больше не о чем беспокоиться, кроме того, что другие о нас подумают?
— Репутация женщины — это ее состояние, — поясняет бабушка.
— Уж очень это жалкая жизнь.
Восстановив домик, я водружаю на его вершину червовую королеву. Карточная стена дрожит и падает под дополнительным весом.
— Не понимаю, почему я так тревожусь? — фыркает бабушка.
Игла в ее пальцах движется быстрее. Да уж, если бабушке не удается раздавить меня бранью, она тут же вызывает во мне чувство вины. Я пытаюсь заново сложить карты, так, чтобы понадежнее уравновесить сооружение.
— Стоять! — шепчу я им.
Потом кладу последнюю карту — крышу — и жду.
— Это все, чем ты можешь заняться? — сердито спрашивает бабушка. — Строить карточные замки?
Я вздыхаю, и крошечный ураган дыхания разрушает все результаты моих трудов. Карты падают беспорядочной кучкой. Мне совсем не смешно. Дневные события немало меня расстроили, и если я не могу найти утешения, мне хочется хотя бы покоя. Маленький всплеск магии может смыть разочарование бабушки, да и мое тоже.
— Ты забудешь все, что случилось сегодня днем после того, как мы вышли от портнихи, бабушка, — монотонно произношу я. — Я — твоя любимая внучка, и мы счастливы, все мы…
Бабушка беспомощно смотрит на вышивку, лежащую на ее коленях.
— Я… я забыла, что нужно делать дальше…
— Давай я тебе помогу, — говорю я, направляя ее руку, пока она не находит место для следующего стежка.
— А, вот как… Спасибо, Джемма. Ты всегда так меня утешаешь. Что бы я без тебя делала?
Бабушка улыбается, и я готова стараться изо всех сил, чтобы удержать эту улыбку, хотя где-то в глубине души гадаю, не пользуюсь ли я чужими жизнями в своих целях, постоянно говоря неправду?
Ужасный грохот вырывает меня из сна. Потирая закрывающиеся глаза, я спускаюсь. Шум устроил Том. Он вернулся в прекрасном настроении; вообще-то он даже поет. Это выглядит так же неестественно, как собака на велосипеде.
— Джемма! — радостно восклицает он. — Ты проснулась!
— Ну да, трудно было бы продолжать спать под такую какофонию.
— Ну извини.
Он быстро кланяется и налетает на маленький столик, на котором стоит ваза с цветами; столик переворачивается. Вода выплескивается на драгоценный бабушкин персидский ковер. Том пытается спасти вазу, но та укатывается от него.
— Том, что ты делаешь?!
— Этот несчастный сосуд явно не в себе. Он требует моей заботы.
— Это не пациент! — говорю я, отбирая у него вазу.
Том пожимает плечами.
— Все равно он не в себе.
Том хлопается в кресло и пытается вернуть себе утраченный достойный вид, так и эдак поправляя сбившийся галстук. От него очень сильно пахнет спиртным.
— Ты пьян! — шепчу я.
Том поднимает палец, как адвокат защиты, обращающийся к какому-нибудь свидетелю.
— Это самое оксобри… ксоробри… окосбри… ужасное, что только можно сказать!
— Оскорбительное? — уточняю я.
Том кивает.
— Именно так.
Меня разбудил полный идиот. Надо вернуться в постель и предоставить Тому терзать слуг, а потом, утром, страдать под их осуждающими взглядами. Ясно, что магия, которую я передала Тому, иссякла, и он вернулся к своей обычной нестерпимой самоуверенности.
— Ну-ка, спроси, где я был вечером, — слишком громко говорит мой брат.
— Том, говори потише! — шепчу я.
Том качает головой.
— Именно так, именно так. Быть тихим, как церковная мышь, да. А теперь спрашивай.
Он взмахивает руками так, что чуть не ударяет самого себя по лицу.
— Отлично, — соглашаюсь я. — Как прошел вечер?
— Я это сделал, Джемма! Я доказал! Потому что меня пригласили стать членом весьма привилегированного клуба!
Слово «привилегированный» звучит примерно как «при-и-вированный». Видя недоумение на моем лице, Том хмурится.
— Знаешь, ты могла бы меня и поздравить.
— Ты говоришь об Атенеуме? Я думала…
Лицо Тома темнеет.
— Ох… Это…
Он небрежно взмахивает рукой.
— Они не заслуживают, чтобы к ним приходили такие славные парни, как я. Ты поняла? Они для меня недостаточно хороши.
Похоже, спиртное лишь усилило горечь поражения.
— Нет. Это совсем другое дело. Вроде рыцарей-тамплиеров. Мужчины, стремящиеся в крестовый поход! Мужчины действия!
Он делает широкий жест и снова едва не опрокидывает вазу. Я спешу спасти ее.
— Мужчины чересчур неуклюжие, на это больше похоже, — ворчу я. — Отлично, ты меня заинтриговал. И что же это за клуб праведников?
— Нет. Я не могу тебе сказать. Пока не могу. Это еще должно оставаться чисто личным делом, — заявляет Том, прижимая палец к губам, и тут же почесывает нос. — Секрет!
— Значит, ты именно поэтому так рьяно обсуждаешь это со мной, понятно.
— Ты смеешься надо мной!
— Да, но больше не стану, потому что это слишком уж легко.
— Ты не веришь, что меня могли пригласить в особый клуб?
Веки Тома тяжелеют, голова опускается. Он как будто куда-то уплывает.
— Но именно сегодня вечером…
— Сегодня вечером? — подсказываю я.
— …они прислали мне знак. Символ размычия… уличия… отличия? Они говорят, это защитит меня… от нежеланного… влияния…
— Чьего влияния? — спрашиваю я, но это уже бессмысленно.
Том похрапывает, сидя в кресле. Вздохнув, я беру с кушетки плед и укрываю брату ноги. Потом подсовываю край пледа ему под подбородок — и холодею. На лацкане — знакомая булавка, украшенная знаком братства Ракшана: черепом и мечом.
— Том, — зову я брата, энергично его встряхивая. — Том, где ты это взял?
Он ворочается в кресле, не открывая глаз.
— Я же тебе сказал, мне предложили стать членом одного клуба для джентльменов. Наконец-то отец будет мной гордиться… и я докажу, что я… настоящий мужчина…
— Том, ты не должен им доверять! — шепчу я, быстро сжимая руку брата.
Я пытаюсь объединиться с ним с помощью силы, но он слишком пьян, и это начинает действовать на меня. Я отшатываюсь, у меня кружится голова.