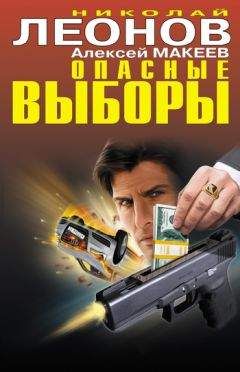Вионор Меретуков - Тринадцатая пуля
— Я рисовал вас так, как видел, — произнес я холодно.
Мария Сергеевна встала. Она отвернулась и достала носовой платок.
— Я знаю вас, Андрей Андреевич. Я видела ваши работы, ваши последние работы, они очень хороши. Вы меня глубоко обидели. Я думала… — ее глаза наполнились слезами.
Дальше я обманывать я был не в силах. Я убрал лист грубо разрисованного картона, которым ловко прикрыл настоящий портрет.
— Успокойтесь. Вот, взгляните…
— Оставьте меня!..
— Я пошутил… Простите.
Она повернулась ко мне. Потом взглянула на полотно…
— Вы подменили?..
— Пока вы упражнялись в салонной элоквенции, я…
— Я же говорила, что вы можете убить! Вы чудовище!
— Вглядитесь же лучше, капризная женщина!
Она подошла ближе. Мы долго стояли рядом и молчали. Наконец, она произнесла:
— Это прекрасно. Это чудо какое-то! У меня не хватает слов. Ах, Андрей Андреевич, вы просто волшебник! Какая прелесть! Это невозможно, как хорошо! А можно оставить так? Не заканчивая?
Она была искренна. Тепло разлилось у меня по сердцу.
— Хотите от меня избавиться и сэкономить на количестве сеансов? — я развернул портрет к себе. — Ну, еще хотя бы один сеанс, думаю, стоит помучить вас…
— Вы все испортите! Я приказываю, я требую, я хочу, — она топнула ножкой, — да, я хочу, чтобы вы оставили все, как есть!
"Чертова миллионерша", — подумал я без злости. Я снова посмотрел на портрет. Как-то подозрительно быстро я его написал. Может, и вправду, оставить его неоконченным? Я и сам был доволен. Я всё видел… Портрет удался.
— Помните "Голубого мальчика" Гейнсборо? — спросила Болтянская.
Я вскинул на нее глаза. Мария Сергеевна в глубоком волнении прижала руки к груди.
— Как очаровательна у него эта романтическая незавершенность, которая будит в зрителе ощущение сопричастности тайне творчества великого художника. Страстно хочется в воображении закончить портрет, дорисовать, дописать его, и каждый волен это сделать по своему собственному разумению.
— Хорошо излагаете. Красиво. Вы не брали уроки искусствоведения у экскурсоводов Эрмитажа?
— Вы несносны! Но я вам все прощаю! Ах, как хорошо! — она опять посмотрела на портрет. — Идемте, я налью вам водки. Заслужили, хотя вы и жестокий обманщик, грубый мальчишка и хулиган.
Когда мы расположились в гостиной, она сказала:
— С вами я чувствую себя так, будто мы знакомы сто лет. У вас нет такого ощущения? Я думаю, это потому, что мы, москвичи, оказались в родном городе в меньшинстве, и мы за версту узнаем друг друга, и нас тянет друг к другу. Вообще, мне иногда кажется, что коренной москвич — это национальность. Почему вы не писали так раньше? — без перехода неожиданно спросила она.
Я пожал плечами:
— А почему вы полагаете, что не писал?
— Тогда где они, ваши работы?
— Откровенно?
— Конечно!
— Если откровенно, то для откровенных разговоров необходимо, как известно, съесть пуд соли и выпить очень много водки.
— Это легко исправить. Наливайте!
— Я и так слишком много пью… Вот вам один из ответов, почему я писал не всегда так, как мог бы… Но, повторяю, это лишь один из ответов. И мне не хотелось бы развивать эту тему…
— Не хочу ничего слышать! Не заговаривайте мне зубы! Отвечайте сейчас же, где они, эти ваши шедевры?
— Я мог бы не отвечать вам, тем более что вы, на мой взгляд, излишне ироничны и тем более что я совсем недавно уже отвечал на подобный вопрос…
— И что же вы сказали?
— Своему старинному другу, который так же бестактен и бесцеремонен, как и вы, я ответил, что они в сортире…
— О, Боже!..
— Он выразился примерно так же. Для вас добавлю, некоторая часть картин уцелела, и они находятся в частных коллекциях как у нас в России, так, вероятно, где-то и за ее пределами. Еще кое-что, из того, что мне дорого, я храню дома.
— Ах, почему Господь не дал мне таланта? Так хорошо стоять где-нибудь на берегу Волги ранним утром и рисовать… Стоишь, а перед тобой река, черная такая, и ветер…
— Стоять-то хорошо… Мимоходом замечу, что я один из тех немногих художников, которые часто работают по памяти. Хотя иногда можно и на Волгу… Даже, наверно, это хорошо, когда Волга… Ах, если бы вы знали, сколько крестьянок и комбайнеров нарисовано вот этими руками! Целый колхоз! Прожита — и прожита давно — большая часть жизни. Надо было тратить силы, а я тратил — и тратил бездарно — время…
— Сколько горечи в ваших словах! А может, это время не прошло так уж бесполезно?
— Не знаю, как вам ответить… Пили много, это точно…
— Я хочу сказать, если бы не было того времени и вас в том времени, может, не было бы вас сегодняшнего и не было бы этого портрета, за который я, кажется, готова вас полюбить.
— А как же вас муж?
— Он поддерживает меня во всем. Кстати, он сегодня возвращается…
— Какой удар! А я уже подумывал пригласить вас покататься на карусели…
— Не говорите глупостей, я очень его люблю, мой муж замечательный человек, и он мечтает с вами познакомиться. Я уверена, вы с ним подружитесь. Не занимайте этот вечер… Я очень прошу вас. Мы заедем за вами в восемь. Форма одежды парадная. У вас есть вечерний костюм?
Если бы я отказал ей, моя жизнь могла сложиться иначе. Но я согласился.
Несмотря на бестактный вопрос о вечернем костюме…
Глава 17
…Приехав домой, я наткнулся на неожиданную сцену.
У одной из картин застыли мои "квартиранты" и глубокомысленно ее созерцали.
Каждый из знатоков подпирал рукой подбородок. Картина была поставлена на табуретку и прислонена к стене.
Я остановился в дверях и стал наблюдать за развитием событий.
— Так, понятно… Это живописное полотно размером… — наконец изрек Каганович.
— Причем здесь размер? — презрительно перебил Берия. — Это натюрморт…
— Очень красивая картина. Озеро, островок с полянкой посередине. Это пейзаж! — сделал открытие Хрущев.
У меня поплыло перед глазами — Хрущев жив?!
— Какой же это пейзаж? — укорил его Молотов. — Вон там, вдали, справа от центра, труба, и из нее дым…
— Это не труба. Это большое дерево. Вероятно, дуб, — Хрущев подошел ближе к картине и наклонился.
— Сам ты дуб. Это труба! Ты что, не видишь? Не может же из дуба идти дым!
— А если его подожгли?..
Лаврентий Павлович животом проложил себе дорогу к объекту обсуждения.
— Остолопы! Вглядитесь, это же письменный стол, а на нем пепельница и дымящаяся трубка! Повторяю, эта картина — натюрморт. По-французски это будет "nature morte".
— И что это значит? — с уважением глядя на Берию, спросил Молотов.
— Это значит — мертвая природа, — с удовольствием объяснил Лаврентий Павлович.
— У тебя, за что ни возьмись, все мертвое, — проворчал Каганович.
— Если логически рассуждать, то здесь не хватает главного, а именно, хозяина трубки, — задумчиво произнес Никита Сергеевич; он отодвинул картину от стены и осмотрел ее со всех сторон, — где-то он же должен быть…
— Поэтому это и называется натюрмортом, что на картине не должно быть живых. Всё, абсолютно всё должно быть мертвым! И напрасно ты, Никита, ищешь, все равно никого не найдешь.
— Из всех нас только товарищ Сталин курит трубку. Значит, этот засранный художник изобразил Сталина без него самого. К чему бы это? Ох, уж мне эти художники! Дождутся еще они от меня! Пидарасы проклятые! — разозлился Хрущев.
— Пошли к Иосифу Виссарионовичу. Доложим, — решил Берия.
И, прихватив картину, квартет знатоков удалился.
…Болтянские заехали за мной ровно в восемь. Перед самым их приездом я стал свидетелем еще одной сцены, которая разыгралась прямо под моими окнами.
Я увидел, как во двор, через арку, решительно вошли две группы штатских граждан. От каждой группы отделилось по человеку.
Один из них, носатый, опиравшийся на толстую палку, был хром на одну ногу.
Второй, полный, пожилой и без видимой растительности на голове, не хромал и был без палки.
Эти двое, по виду старые футбольные болельщики, подошли к Саболычу и его приятелям, которые как раз готовились приступить к любимой игре, и принялись их горячо о чем-то просить. После первых же слов Саболыч и его партнеры раскрыли в изумлении рты, а затем дружно замотали головами.