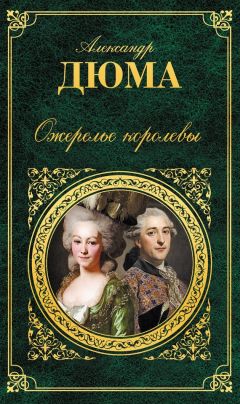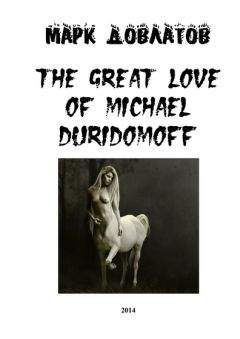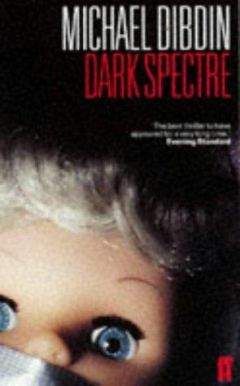Александр Дюма - Женщина с бархаткой на шее
Какой великолепный контраст: после шумного игорного зала — эта пустынная площадь с эшафотом, ее вечным хозяином; после зрелища смерти — запустение и затишье!
Итак, Гофман шел к гильотине, словно притягиваемый магнитом.
Вдруг, почти не понимая, как это произошло, он очутился прямо перед ней.
Ветер свистел на эшафоте.
Скрестив руки на груди, Гофман глядел на него.
Сколько мыслей должно было родиться в мозгу у этого человека, чьи карманы были набиты золотом: он мечтал о ночи наслаждений, а в эту ночь одиноко стоял у подножия эшафота!
Его размышления были прерваны: внезапно ему почудилось, что к стонам ветра примешивается стон человека.
Он наклонился и прислушался.
Стон послышался снова: он доносился не издали, а откуда-то снизу.
Гофман огляделся, но никого не увидел.
Всхлипывание достигло его слуха в третий раз.
— Похоже, что это женский голос, — прошептал он, — и доносится он из-под эшафота.
Наклонившись, чтобы лучше видеть, он начал обходить гильотину. Когда он проходил мимо чудовищной лестницы, нога его за что-то задела; он протянул руки и коснулся какого-то существа, скорчившегося на первых ступеньках этой лестницы и одетого во все черное.
— Кто вы? — спросил Гофман. — Кто спит ночью рядом с эшафотом?
Произнеся эти слова, он опустился на колени, чтобы увидеть лицо той, кому он задал этот вопрос.
Но она не двигалась; локти она поставила на колени, а голову положила на руки.
Несмотря на ночной холод, плечи ее были почти совсем обнажены, и Гофман смог разглядеть черную полоску, вокруг ее белой шеи.
Это была черная бархатка.
— Арсена! — вскричал он.
— Да, это я! — каким-то странным голосом прошептала скорчившаяся женщина, подняв голову и взглянув на Гофмана.
XVII
ГОСТИНИЦА НА УЛИЦЕ СЕНТ-ОНОРЕ
Гофман в ужасе попятился; он слышал ее голос, он видел ее лицо и все-таки не верил, что это она. Но Арсена подняла голову; руки ее, открыв шею, упали на колени, так что стал виден ее необычный бриллиантовый аграф, соединявший концы бархатки и сверкавший в ночи.
— Арсена! Арсена! — повторял Гофман.
Арсена встала.
— Что вы здесь делаете в такую пору? — спросил молодой человек. — Да еще в этом сером платье! Да еще с голыми плечами!
— Его арестовали вчера, — отвечала Арсена, — а потом пришли арестовать и меня, и я убежала в чем была, но сегодня вечером моя комнатушка показалась мне слишком тесной, а кровать слишком холодной, и вот в одиннадцать часов я ушла оттуда, и теперь я здесь.
Эти слова прозвучали до странности однотонно; Арсена произнесла их, не сделав ни одного движения; они вылетали из ее бледных губ, которые открывались и закрывались словно с помощью пружины: казалось, что это был говорящий автомат.
— Но не можете же вы оставаться здесь! — воскликнул Гофман.
— А куда я пойду? Я хочу возвратиться туда, откуда я пришла, как можно позже; уж очень там холодно.
— Идемте со мной! — воскликнул Гофман.
— С вами? — повторила Арсена.
И при свете звезд молодому человеку показалось, что эти мрачные глаза метнули на него презрительный взгляд, похожий на тот, что однажды уже уничтожил его в прелестном будуаре на Ганноверской улице.
— Я богат, у меня есть золото! — вскричал Гофман.
В глазах танцовщицы сверкнули молнии.
— Пойдемте, — сказала она, — но куда?
— Куда?
В самом деле: куда мог повести Гофман эту чувственную, привыкшую к роскоши женщину, ту, что расставшись с очарованными замками и волшебными садами Оперы, уже привыкла топтать персидские ковры и нежиться на индийском кашемире?
Само собой разумеется, он не мог привести ее в свою студенческую комнатушку: там ей было бы так же тесно и так же холодно, как и в том неведомом обиталище, о котором она только что рассказывала и куда, по-видимому, так безумно боялась вернуться.
— В самом деле, куда? — спросил Гофман. — Я ведь совсем не знаю Парижа.
— Я могу привести вас в одно место, — сказала Арсена.
— Прекрасно! — воскликнул Гофман.
— Идите за мной, — промолвила молодая женщина.
Деревянной походкой, походкой автомата — в ней не было ровно ничего от обворожительной легкости, восхищавшей Гофмана в танцовщице, — она пошла вперед.
Молодой человек не догадался предложить ей руку: он последовал за ней.
Пройдя по Королевской улице (ее называли в то время улицей Революции), Арсена повернула направо, на улицу Сент-Оноре, для краткости называемую просто улицей Оноре, остановилась у фасада великолепной гостиницы и постучалась.
Дверь тотчас же отворилась.
Привратник с удивлением посмотрел на Арсену.
— Поговорите с ним, — сказала она молодому человеку, — иначе меня не впустят, мне придется вернуться обратно и сесть у подножия гильотины.
— Друг мой, — живо заговорил Гофман, становясь между молодой женщиной и привратником, — проходя по Елисейским полям, я услышал крик: «На помощь!» Я подоспел как раз вовремя, чтобы спасти эту даму от убийц, но я не успел помешать им раздеть ее. Пожалуйста, отведите мне лучшую комнату, прикажите развести огонь пожарче и подать нам хороший ужин. Вот вам луидор.
И он бросил золотую монету на стол, где стояла лампа, все лучи которой, казалось, сосредоточились на сверкающем лике Людовика XV.
В то время луидор был крупной суммой: на ассигнаты это составляло девятьсот двадцать пять франков.
Привратник снял свой засаленный колпак и позвонил. На звонок прибежал коридорный.
— Лучшую комнату для этих господ, да поживее!
— Для господ? — с удивлением переспросил коридорный, переводя взгляд с более чем скромного костюма Гофмана на более чем легкий костюм Арсены.
— Да, — сказал Гофман, — самую лучшую, самую красивую, а главное — хорошо протопленную и хорошо освещенную; вот вам луидор.
Казалось, при этом коридорный испытал то же чувство, что и привратник: он склонился перед луидором.
— Поднимайтесь и ждите у дверей третьего номера, — сказал он, указывая на широкую лестницу, полуосвещенную в этот поздний час, однако ступени ее — роскошь по тому времени весьма необычная — были покрыты ковром.
С этими словами он исчез.
Перед первой же ступенькой Арсена остановилась.
Казалось, поднять ногу для этой легкой сильфиды составляет непреодолимую трудность.
Можно было подумать, что у легких атласных туфелек были свинцовые подошвы.
Гофман предложил ей руку.
Арсена оперлась на нее, и хотя он не почувствовал тяжести ручки танцовщицы, зато почувствовал холод, которым веяло от ее тела.
Сделав над собой невероятное усилие, Арсена поднялась на первую ступеньку, затем на другую, на третью и так далее, но каждый раз при этом у нее вырывался вздох.
— Ах, бедная женщина, — прошептал Гофман, — как же вы должны были страдать!
— Да, да, — отвечала Арсена, — я страдала… Я много страдала.
Они подошли к дверям третьего номера.
Почти одновременно с ними подошел и коридорный, неся целую гору горящих углей; он открыл двери комнаты — и в одну минуту запылал камин и зажглись свечи.
— Вы, наверное, голодны? — спросил Гофман.
— Не знаю, — ответила Арсена.
— Коридорный! Лучший ужин, какой вы только сможете нам подать, — сказал Гофман.
— Сударь, — вынужден был заметить коридорный, — теперь говорят не «коридорный», а «служащий». Но поскольку сударь хорошо платит, он может говорить, как ему будет угодно.
И, в восторге от своей шутки, он вышел со словами:
— Ужин будет через пять минут!
Когда дверь за служащим закрылась, Гофман метнул жадный взгляд на Арсену.
Она так стремительно бросилась к огню, что даже не подумала подвинуть кресло к камину; она просто съежилась в уголке у очага в той же позе, в какой нашел ее Гофман около гильотины; и здесь, поставив локти на колени, она, казалось, была озабочена тем, чтобы подпирать руками голову на плечах и держать ее прямо.
— Арсена, Арсена, — говорил молодой человек, — я сказал, что разбогател, не так ли? Посмотри — и ты увидишь, что я не обманул тебя.
Гофман начал с того, что вывернул на стол свою шляпу; шляпа была полна луидорами и двойными луидорами, и они потекли из шляпы на мрамор с характерным для золота звуком: ни с каким другим звуком его не спутаешь.
Вслед за шляпой он опорожнил карманы, и карманы один за другим выбросили на стол добытые с помощью игры трофеи.
Груда сыплющегося, сверкающего золота громоздилась на столе.
Звон золотых монет, казалось, оживил Арсену; она повернула голову, словно вслед за слухом воскресло и ее зрение.
Она встала, все такая же деревянная и неподвижная, но ее бледные губы заулыбались, но ее остекленевшие глаза засверкали, и блеск их соперничал с блеском золота.