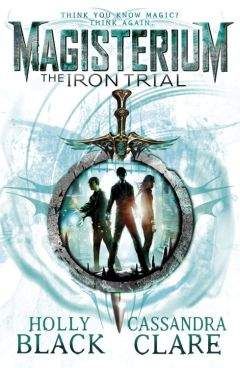Ирина Скидневская - Самая страшная книга 2014
Amen.
Игорь Кременцов
10 фунтов
Часть 1
Шел 1920 год, я устроился работать на верфи, и мы с Китти зарабатывали весьма неплохо. Нам хватало на съемную меблированную комнату, молоко и говядину к завтраку и на кое-какую одежду. Весьма недурно, когда есть возможность хорошо заработать. Еще лучше, если эта возможность существует постоянно.
Китти была моей сестрой. Ей еще не исполнилось шестнадцати, я же переступил порог совершеннолетия. Мы были очень похожи, я и Китти, как две капли воды из одного стакана. С тем лишь отличием, что во мне все-таки преобладали мужские черты, Китти же была воплощением юной женственности.
Мы снимали комнату в доме неподалеку от вокзала Сент-Панкрасс. Не столь далеко, чтобы не слышать гулкого ворчания поездов, но и не так близко, чтобы оно мешало спать. По воскресеньям мы наведывались в церковь Святого Панкратия, но это к рассказу не относится, так как события того времени произошли на территории Сент-Панкрасс.
Если вам когда-нибудь доводилось побывать на этом вокзале, впрочем, как и на любом другом вокзале Лондона, то вы должны были видеть множество нищих, которые, будто мухи, во множестве кружат близ лавок на перроне и выпрашивают подаяние. Согласитесь, не слишком приятное зрелище, особенно для человека чувствительного.
Должно быть, в моих словах присутствует определенная толика жесткости к этим беднягам, обездоленным бессердечной судьбой, но, поверьте, я имею полное право так говорить. Впрочем, как и моя сестра. В свое время мы сами были нищими. После того как отцу всадили нож между ребер в одном из кварталов для черни, нам троим: мне, Китти и матери — пришлось продать почти все. Мать оставила лишь отцовские часы на цепочке, которые впоследствии перешли ко мне и сыграли значительную роль в этой истории.
Я знаю, что такое просить подаяние, потому что мы жили этим больше восьми лет. Думаю, это дало мне право судить о нищих на перроне Сент-Панкрасс. Уверяю вас, это весьма скверные люди, готовые толкнуть вас под поезд только ради того, чтобы занять более выгодное место. Можете не сомневаться лишь в одном — большинство из них невероятно голодны и хотят спать. Проверено на собственном опыте.
Мой путь на работу каждое утро вел через вокзал, по замощенному брусчаткой перрону. Сквозь пар поездов и суету толпы под бой часов на главной вокзальной башне я каждый день шел на верфь. Таким образом я экономил более трех четвертей часа.
Обычно Китти варила мне яйцо, крепкий кофе и заворачивала в газету хлеб с говядиной. С этим-то свертком и связано то, что я обратил внимание на нищенку с ребенком.
Они напомнили мне мать и Китти.
Когда трагически погиб отец, я был достаточно взрослым по меркам лондонского дна. Мне исполнилось восемь. Малышке же, которая впоследствии превратится в моего двойника, едва минул годик.
Я бегал по улицам, обычно там, где много людей, а где еще просить подаяние? Ярмарки, торговые ряды, даже богатые кварталы. Словом, в свое время я подробно изучил все лондонские закоулки. А мать была лишена возможности беспрепятственно ходить там, где ей заблагорассудится. С годовалым ребенком на руках это затруднительно, и тот, кто скажет обратное, получит оплеуху. От меня…
Эта женщина обратила на себя внимание тем, что сидела наособицу, отдельно от остальных. Вроде бы ничего особенного, но моему наметанному глазу показалось странным, что вокруг нее нет ни одного босяка, выпрашивающего подаяние. При этом она расположилась в людном, проходном месте, которое иначе как рыбным не назовешь. В обычное время здесь толпится не меньше полудюжины нищих, но сейчас, когда эта босячка с младенцем просила милостыню, рядом с ней никого не было.
Ее словно бы избегали.
На вид ей можно было дать как сорок, так и шестьдесят лет. Впрочем, опыт общения с обитателями лондонского дна подсказывал, что ей не более тридцати. Непосильная ноша бедности вкупе с отчаянием делают из молодых людей стариков. Как снаружи, так и внутри. Нищенка была худая, словно пугало из прутьев, ее одежда представляла собой ветхое рванье, лучшие части которого могли бы сгодиться разве что на половую тряпку. Острые, необычайно широкие скулы делали настолько разительной худобу лица, что казалось, будто по обеим сторонам его зацепили невидимыми крючьями и теперь изо всех сил растягивали. Когда-то голубые глаза ныне выцвели в оттенок посеревшего от времени теста и были посажены так глубоко, что можно было подумать, будто их притянуло к затылку магнитом.
В руках нищенка держала сверток тряпья, имеющий очертания крохотного человечка. Кто внутри, девочка или мальчик, определить было невозможно.
Это до такой степени напомнило мне детство, что дыхание перехватило. Прошло много лет, мать умерла, а Китти выросла, превратившись в красавицу, но я снова словно был тем самым ребенком, снующим в толпе. Как будто я пришел к родным, чтобы отдать им выпрошенные пенсы — на эти деньги мать покупала для Китти еду, так что я в каком-то смысле был кормильцем.
Не совсем понимая зачем, я остановился. С тех пор: как мы с сестрой стали жить нормальной жизнью, я никогда не останавливался перед нищими. Даже если кто-то из них был родом из моего прошлого.
Костлявое существо с ребенком сидело прямо на брусчатке, а это весьма непросто. Попробуйте стать на колени в рассыпанный сухой горох. Подобные ощущения вы испытаете, если будете долго сидеть на твердой поверхности, имея телосложение смерти со средневековых карикатур.
Несложно было догадаться о том, что нищенка хотела есть. Голод выжигал ее изнутри, заставляя внутренности ссыхаться до размеров, вдвое меньших, нежели положено природой.
В кармане пиджака газетный сверток с едой потяжелел. Он камнем тянул меня к земле. Я никогда не смогу съесть камень, каким бы вкусным он ни был. Босякам в этом деле проще, они привыкли есть что угодно.
Как будто ничего не изменилось… Женская худоба. Нет, не худоба — критическое истощение, за которым обмороки, галлюцинации и смерть. Грязный сверток со спящим ребенком внутри. Вокзал, шум, люди, и никому нет дела. Я принес пенни для Китти…
Я стоял и смотрел. Время наворачивало круги на тысячах циферблатов. Секунды спешки, минуты отставания, ржавчина шестеренок и разбитые стекла часов — ничто не способно ввергнуть вас в прошлое. Кроме воспоминаний.
Сверток с едой стал еще тяжелее. Я не мог больше выносить мертвого груза в кармане, а потому вытащил хлеб с говядиной, чтобы отдать это все скелету в тряпье. Еда нужна, чтобы наполнить молоком материнскую грудь. Увы, у этой женщины наполнять было нечего — груди нищенки давно иссохли и не могли выполнять предназначенную им природой функцию. Но камень в кармане я таскать тоже не собирался.
Я протянул нищенке еду, и внезапно произошло нечто, заставившее меня изумиться. Тонкое лицо, череп, покрытый папиросной бумагой, озарилось оскалом. Босячка открыла рот, и я увидел, что добрая половина зубов у нее отсутствует. Что до остальных — они были черные, пропитанные гнилостью и дурным запахом. Впрочем, мое удивление вызвало не это.
Нищенка взглянула на меня притянутыми к затылку глазами и отрицательно помотала головой. Я развернул газету, показывая содержимое. Тонкие губы заходили вверх-вниз, кожа лица еще сильнее натянулась, отчего казалось, что скулы прорвут в ней дыры. Женщина заговорила со мной.
— Нет, сэр. Не надо. Хлеб не надо. Я не буду, и она не будет. — Тонкая паучья рука коснулась ребенка — Нужно другое, нужны деньги. Вы видите? Хотя бы немного. Прошу вас. Иначе она не будет жить… Прошу вас. Деньги… Вылечить.
Только тогда я увидел фанеру с выцарапанной на поверхности надписью. Видимо, писали чем-то вроде обугленной головни, вычерчивая буквы черным и одновременно вытравливая их тлеющим деревом.
«Если вам не безразлично то, будет ли жить моя дочь, подайте на лечение, кто сколько способен».
— Не нужно пищи, прошу вас, сэр… Я не хочу есть. Я должна спасти ее. Она будет жить… Будет, будет, будет… Он сказал, что вылечит. Нужны лишь деньги. — Скелет в лохмотьях закатил глаза. Показались серые, с синевой вен, белки. К моему горлу подступила тошнота.
Нищенка наклонилась над ребенком, коснулась его губами и вновь просительно повернулась ко мне. Она стала тихонько раскачиваться, что-то беззвучно причитая.
Из вороха тряпок, твердых от грязи и шевелящийся от мух, на меня уставилось лицо крохи. Дитя было объято тем самым сном, который иногда пугает родителей, и он, скорее всего, был усугублен голодом или болезнью. Казалось, девочку ничего не разбудит. Синее, в грязных разводах личико застыло совершенно неподвижно. Один глаз был закрыт, тогда как другой невидяще глядел сквозь меня. Возможно, причиной послужил паралич или судорога, а может быть, малышка еще не умела бессознательно контролировать мышцы во сне. Как бы там ни было, выглядело это пугающе.