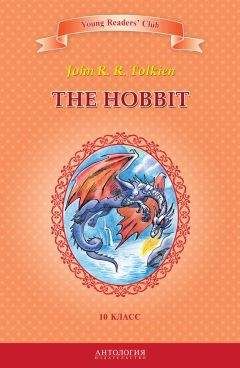Александр Бушков - Лесная легенда
Потолковали с милиционером, уполномоченным. Версия одна. С нашими Ян никогда не имел никаких связей — так что, скорее всего, Смок ему предложил работать на себя, а Ян, по своей привычке жить сам по себе, отказал в лоб.
Пускали Карая — следы обработаны, он не взял. Написали бумаги и уехали. И снова я по дороге думаю, что нужно попросить войсковую поддержку, и думаю, что хрен мне ее и на этот раз дадут…
И снова потянулись обычные будни. День на четвертый прибегает хлопчик — я его уже смутно помню, живет где-то неподалеку, — и, сдернув кепчонку, сообщает, что «панна Янина требует к себе пана капитана». Именно что требует, понимаете ли…
Я к ней пришел тут же. Она стоит, осунулась, щеки запали, но все такая же красивая, глаза нехорошо блестят, словно в лихорадке, а злости в них… Человека с такой злостью в глазах можно посылать с гранатой под танк, и он пойдет, я на фронте такое видел…
Не дав мне сказать ни слова, она спросила:
— Хочешь взять Смока?
И я, не раздумывая, ответил:
— Еще как.
Янина сказала:
— Живьем ты его не возьмешь. Но по земле ему больше не ходить. Да и всем…
— Повезет, панна Янина, возьму и живьем, — сказал я. — Дело знакомое…
— Не возьмешь, — ответила она. — Сядь за стол и сиди спокойно.
Я сел. Она поставила передо мной глубокую тарелку с водой — там плавали какие-то листики порезанные, свежие, но непонятно, какого растения. Зашла мне за спину. Я, видимо, явственно ворохнулся — ну, кто ее знает? — слышу, она фыркнула:
— Не бойся. Ты мне ничего плохого не сделал…
И кладет мне ладони на виски — теплые, ничуть не дрожат, сжимает виски так, что оба ее колечка, и на правой руке, и на левой, кожу давят чуть ли не до боли, но я терплю и не шевелюсь. Она начинает шептать что-то.
Сознание у меня ясное, но все вокруг помаленьку словно бы затягивает туманом, и вскоре я уже ничего не вижу, кроме воды в тарелке, и вода сначала краснеет, потом мутнеет, потом на ее месте образуется словно бы иллюминатор, и я за ним вижу человека по пояс. И не похоже это ничуть на современное телевидение — словно я смотрю в самое натуральное окошко, в иллюминатор без стекла.
Стоит он где-то под елкой и курит спокойно. Лицо, и точно, можно выразиться, породистое: черты тонкие, нос с горбинкой, губы в ниточку, темноватые. Очки круглые, в золотой оправе. Если вспомнить скудные данные и сопоставить… Смок, сволочь! Тут и гадать нечего!
Откуда-то издалека-издалека доносится голос Янины:
— Насмотрелся?
Едва выдавливаю из себя:
— Теперь и в темноте узнаю.
Смок пропал, и вместо него появилась поляна, наблюдаемая словно бы с некоторой высоты, словно я сижу высоко на суку на опушке. Приглядывался я, приглядывался… Характерная такая поляна. По форме вроде неправильного треугольника, справа, где склон, меж деревьями голая серая скала проглядывает, слева дерево явно расщеплено ударом молнии. И эту поляну я знаю, были мы и там. Километрах в десяти от села. Карай там ничего не обнаружил, да и мы тоже.
А потом все пропало, и зрелище, и туман, в тарелке снова вода с непонятными листьями. Янина убрала руки и говорит:
— А теперь слушай. Веришь ты или нет, но сделать ты должен именно так.
Минут через пять я чуть ли не бегом вернулся в одну из наших хат. Ребята все при деле — кто оружие чистит, кто воротничок подшивает. Только Вася Зуйко, поставив правый сапог на табурет, начищает его со всем усердием, а левый уже сверкает, как зеркало. Увидев меня, снял ногу с табурета, выпрямился и чуть ли не с мольбой:
— Товарищ капитан, ничего вроде бы не предвидится… Разрешите отлучиться?
Я стою и молчу. Трогаю через галифе в кармане, что она мне дала, и в голове ни единой мысли. Вася говорит:
— Буду просить, чтобы вышла за меня. Не могу я без нее, ночи нет, чтобы не снилась…
— Отставить, жених, — сказал я. — Не время. Боевая тревога…
Как мы, семнадцать человек с Караем и двумя ручниками, уместились в двух невеликих «виллисах» — отдельная песня. Ничего, уместились, проехали километров восемь до поляны, а оставшееся расстояние прошли пешком, со всеми предосторожностями. Могли и часовых выставить, хотя в прошлый раз мы ничего такого не засекли, прошли спокойно и ушли спокойно. И вот она, поляна…
Оцепить мы ее оцепили — но по скудости наших сил оцепление получилось хиленькое, со значительным расстоянием меж бойцами — но откуда ж мне подкрепление взять… Когда все были в готовности, я зашел за куст, чтобы никто, не дай бог, не увидел. Ни к чему мне потом лишние вопросы и разговоры. Не бывает, так не бывает…
Достал скляночку, что мне дала Янина, — маленькую, широкую, темного стекла, горлышко закрыто плотной бумагой, натуго перевязано черными нитками. Как наставляла Янина, пробил я бумагу пальцем, не трогая ниток, перевернул скляночку вверх дном. Посыпалась оттуда какая-то труха наподобие измельченных корешков, кусочки змеиной кожи, еще какая-то дрянь… Высыпал аккуратно, все до крошечки — и нисколько мне, советском офицеру, коммунисту и чекисту, не стыдно, что я это делаю, голова ясная, пустая какая-то, ни о чем я не думаю, и не хочу думать, и плевать мне, что бывает, а что нет, я Смока взять хочу…
Лег, приготовил автомат. Поглядываю на часы. Минут через пять в двух концах поляны земля с травой встает дыбом, открываются два великолепно замаскированных люка…
И как они оттуда сыпанули! Ну вот если напихать полный мешок диких зайцев, подержать сутки, а потом вынести в поле и вытряхнуть, то будет примерно то же самое… Даже почище — зайцы будут к свету привыкать, а эти уж сыпанули… Отталкивают друг друга, орут благим матом, мечутся…
Вот тут мы и начали работать изо всех стволов. Ввиду их значительного численного превосходства миндальничать не стоило — много пленных нам, в общем, без надобности, а если они очухаются и завяжут перестрелку, придется туговато — народец опытный и видавший виды… Поэтому их в основном клали на месте — ну, не наобум Лазаря, а с оглядочкой, я всем описал Смока и велел брать живым, он нам был крайне интересен связями с их зарубежной штаб-квартирой, или, как это именовалось, «центральным проводом».
И кончилось все довольно быстро: ну, два ручника и пятнадцать автоматов… по совести говоря, получилась бойня, какой я ни прежде, ни потом не видывал. Ну да кто бы их жалел…
То ли двое, то ли трое, опамятовавшиеся, все же прорвались — положили гранатами двух наших и порскнули в чащобу. Я отправил за ними троих с Караем, а сам занялся осмотром.
Результат был такой: тридцать два трупа… ну ладно, кой-кому из тех, кто явно кончался, помогли… один взят в плен целехоньким, еще двое легкоранеными. Смока среди них не наблюдалось. И тогда мы через оба люка, двумя группами пошли в схрон. Без всякой опаски — драпали они оттуда так, что вряд ли кто-то озаботился поставить мины. Светили фонариками, шли в хорошем темпе.
Схрон был сработан на совесть, как многие, которые я уже видел: все обито досками, пол-потолок-стены, строилось на совесть, с расчетом на долгое пребывание. Где-то тут у них должна быть и вентиляция, и клозет. Запашок, конечно, как обычно — хоть прищепку на нос вешай…
И тут я слышу впереди этакий собачий скулеж с подвыванием. Звуки странноватые наряду. Выскакиваем втроем в коридор направо (коридоры были длинные, да и ярусов наверняка два-три), я свечу фонариком, Акимов с Талафевым — автоматы наизготовку…
А он, Смок, словно бы и не чувствует, что попал в луч фонарика, — плетется вдоль стены, ощупывает доски руками, как слепой, скулит, будто кутенок, которого топят… Опасности от него никакой, сразу ясно.
Я тихонько позвал:
— Пане Смоче!
Он рывком повернулся на звук. Смотрел я на его какие-то секунды, но впечаталась мне эта рожа в память навсегда: перекошенная, дикая, без очков, глаза словно бельмами подернуты, и от них до подбородка две полоски крови, подсохшей уже, но накапавшей и на френч…
Я сказал уже громко:
— Ну вот и свиделись, пане Смоче! МГБ!
И тут он, слепой, с фантастической быстротой, на ощупь, рвет с пояса «лимонку», прижимает ее к груди, как лялечку — а кольцо так и осталось на поясе, чека выдернута, от запала дымок…
Едва мы успели отпрянуть за угол — тут и ахнуло. Взрывная волна нехило шухнула по коридору, осколки прожужжали… Когда мы высунулись снова, он еще подрыгивал ногами. А вид… Ну, у человека, который рванул «лимонку», прижавши ее к груди, вид получается малоприятный. Остается от него немало, но выглядит оно…
— Дальше пойдем? — тихонько спрашивает Акимов.
А я отчего-то совершенно точно знаю, что во всей этой норе больше нет ни одного «трезуба». И командую — на выход.
Тем временем вернулись те трое. Салимов, проводник, несет Карая, и сразу видно, что ничем тут уже не поможешь — голова болтается, глаза стеклянные, язык наружу… А Салимов все равно несет — он же его щенком взял в питомнике, выучил…