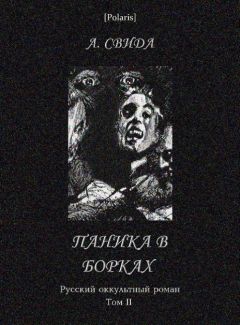Александра Свида - За закрытыми ставнями
— Сорвалось… Сорвалось… Сорвалось…
Глава 23
Богомольцы
Длинная, широкая, обсаженная по бокам деревьями, бесконечная дорога, так называемый «большак».
Много по ней ездит всякого народа и на лошадях, и на волах, но еще больше в летнюю пору ходит пешком.
Идут такие пешеходы с котомками за плечами, медленным усталым шагом, редко в одиночку, а большею частью группами.
Это богомольцы.
Чем ближе к Киеву, тем, кажется, их все больше и больше.
Да и диво ли? Ведь со всех концов необъятной матушки- России они собираются.
Идут сюда просто угодникам святым поклониться, идут и по обету, а больше всего со скрытым покаянием, с тоской безысходной на душе.
По одному из таких «большаков» идут две богомолки — старуха и молодая бабенка.
Еле–еле. Молодая–то, видать, больше старой притомилась.
— Сядем, бабушка, силушки нет идти.
— Смотри, глупенькая, сядешь — трудно вставать будет. Это уж я опыту знаю.
— Притомилась уж очень, не могу больше, да и глазынь- ки болят. С Костромской губернии я; у нас все больше леса, летом прохлада–благодать. А здесь, кабы не деревья при дороге, пропасть можно. Глядеть больно: все–то поля да степи, степи без конца.
Остановилась бабенка, прикрыла рукой глаза от солнца и с тоской посмотрела в одну и другую сторону…
Вот уж поистине:
Нивы, покосы да ширь поднебесная,
Солнце нещадно палит.
Да уж, палит. Непривычному человеку и не выдержать.
— Бабушка, как это здесь народ–то живет?
— Так и живет, да еще и Бога благодарит, глупая. Сколько мы сел да деревень прошли, видела ли ты грязь да бедность непокрытую? Хорошо живут; хатки все белые, при них для прохлады садочки вишневые разведены, а народ все рослый, здоровый.
— Угрюмый он, бабушка. Точно солнце у него всю душу иссушило. У нас ласковей, проще.
— А ты полно–ка Бога гневить. Ишь ведь — всем недовольна. Если уж отдохнуть хочешь, так сядем вот под ту грушу, помолясь, и подкрепимся чем Бог послал.
Сели. Вынули хлеб из котомок. В жестяных чайниках за плечами вода. Размочили хлебец, поели, водой запили. А вода теплая — нагрелась от солнца — невкусная.
Старуха прикорнула у канавки и той же минутой заснула.
Молодая прислонилась к дереву, глядит в даль — задумалась. Видно по ней — невеселые все думы. Вспомнилась ей родная деревня и их избенка на самом краю. Старая уж избенка, на один бок покосилась, оконца маленькие, калитка на одной петле еле держится. Двор наполовину раскрыт, да и на хате солома на крыше почитай что сгнила.
А как хорошо в ней жилось. Мама, всегда ласковая, любила и жалела, как могла баловала свою Груню. «Ну, и Груня ее была хороша, — вспомнила она себя. — Высокая, статная; лицо — кровь с молоком, коса русая ниже пояса, и в ней лента алая бантом завязана…
Хорош был и Гришутка — сын старостин. Любились как с ним, миловались. Думали: счастью конца не будет. Выйдут, бывало, в праздник на гулянье, — все заглядываются: хороша пара! Только отец у него такой строгий да властный. «Не хочу, говорить, снохи от бобылки–нищенки. Перед людьми зазорно, дом осрамишь!»
Гришута — да и мать его — в ногах валялись, молили… Куда тебе! «Убью, — говорить, — а не позволю»!»
Как ни бились, а ничего не поделали.
Сосватали ему невесту из дальних. Не очень, сказать, красивую, но богатую. Тоже одна дочь у отца.
На Грише лица не стало. О Груне и говорить нечего.
Позвал Гриша попрощаться.
День был погожий, солнечный. Идут стежкой по полю, — по бокам рожь высокая, урожайная, васильки синие, ее цветочки любимые, среди золотых колосьев улыбаются: «Что, дескать, не рвешь, венка не плетешь, на русую голову не надеваешь?» В небе ясном жаворонки песней заливаются, а они идут, как к смерти приговоренные.
Взглянула она на Гришу. «В остатний разочек мы увидимся!» Как всплеснула руками! «Мать сыра–земля, возьми ты меня, бесталанную!»
Дрогнул Гришута. Обхватил ее руками, прижал к груди, ласкает, целует, прощения просит. А в чем?
Как расстались, один Господь — Батюшка ведает.
Погубил отец беднягу: не долго с женой пожил. Все, говорят, тосковал, тосковал, тосковал, извелся совсем… потом как–то простудился в обозе и… кончился.
— А я? — Посмотрела на свои руки худые, желтые, на свою грудь впалую и улыбнулась. — Недолго, Гришута, тебя переживу, скоро свидимся.
Она тоже замуж вышла за вдовца — на детей. Только бы из своей деревни подальше уйти — на жену Гришину не глядеть.
Муж не обижает ее, нет: хороший, сердечный. На деток его тож нельзя пожаловаться, а своих Бог не дал.
Только вот душа все болит! Нет места ни в доме, ни в лесу, ни на поле…
— Гриша, сокол мой ясный! Не забыть мне тебя!
Упала на сухую придорожную траву — плачет, заливается…
* *
Поздний вечер. На селе кончается жизнь. Все натомились — страдная пора.
Особенно тяжело приходится бабам. На поле работа сморила — спины не разогнешь, а дома скотину нужно убрать, ребят досмотреть, всех напоить, накормить, за всеми убрать. А легла — как мертвая. Только, кажется, глаза свела, а уж пастух трубит — нужно коровушку доить, в поле гнать.
Тяжела ты, долюшка женская!
Мудрено ли, что вечером иногда и неласково странный люд примешь? Много больно их тут. Все идут, идут… На пути село. Вот и сегодня двух богомолок на гумне устроила, глянь, — третий идет. Ах, надоедные! Иди вот, ложись под навес!
А одна бабенка молодая, а чуть живая идет. Надо бы ей молочка отнести, да силушки нет. Кажется шага одного не сделаешь… Свалилась баба — уснула…
Затихло село… Все спят сном измученных людей… Даже собаки уснули… Кого тут караулить, да и от кого?.. Завтра и им надо вставать чуть свет. Дело — не дело, а побегай- ка по жаре целый день за хозяином с поля на гумно, с гумна на поле. Поневоле язык высунешь. А ночь придет — и не до караула.
И крепким сном спят все Рябчики, Жучки да Азорки.
Но не все спят на селе. Шевелится кто–то под навесом. Вздохнул раз, другой — тяжело так. Слышно, что от какой- то боли вся грудь надрывается.
Вышел за ворота…
Спит село, все белым лунным светом залитое. Легкий предрассветный ветерок в садах чуть–чуть вишневые листочки трогает. Пробежал по лицу странника, волосы его шевельнул таково ласково — точно мать, когда он был маленький.
Да полно, уж был ли он когда–нибудь маленьким? Не веки ли вечные так странствует, покоя не найдет?
Сейчас из Соловков идет — в Киев пробирается. А там, если не простить Господь, может и на Афон пойдет…
На пригорке церковь. В лучах месяца искрится крест.
Опустился на колени, упал головой на пыльную дорогу… Тише, уймись и ты, ветерок. Здесь человек исстрадавшуюся душу к престолу Господа сложил… Тише!..
* *
Не спится Груне. Дыхания нет, грудь стеснило.
Шатающейся тенью вышла она из гумна.
«Село–то как растянулось–раскинулось и, впрямь, им тут привольно. Наше Черкизово лесом опоясано — стиснуто. Жмитесь–де, человеки, друг к дружке теснее: во взаимной помощи — сила».
Взаимная помощь?! Да когда же человек человеку другом бывает? Не друг он, а зверь лютый. Каждый норовит себе больше урвать, а то и так просто без нужды ближнего загубить.
Гришу отец родной в землю загнал, — а она? Сколько городов, сель, деревень исходила… Нет места, нет покоя!
Человек у нее душу вынул, да вместе с Гришей в землю закопал…
На селе все, до единой душеньки, спят: наработались, устали. А она вот все ходит да бродит.
Господи, есть ли еще у кого на душе тягота такая!
Муж отпустил. Уж какая она ему теперь помощница? «Иди, — говорит, — с Богом, может, покой найдешь!»
Денег на дорогу давал — не взяла. Поклонилась ему в ноги да Христовым именем и пошла.
— Ничего, дойду…
Подняла к небу полные слез глаза, неслышно, точно по воздуху, к церкви идет. Руки, как у лунатика, вперед протянуты.
Споткнулась.
На дороге, распростертый в пыли, человек лежит. Даже не шелохнулся — не почувствовал.
Мертвый?
Какое! Рыдает глухо, надрывно, головой к земле изо всех сил прижался.
Когда женщина плачет–убивается, жалко ее до слез, а вот когда такой великан–мужчина зарыдает — жутко становится!
Тростинку и ветер клонит, какая же буря этакий дуб с корнем вырвала да на землю бросила?
Кто и с каким утешением к нему подступиться осмелится?
Стоит над ним Груня, не дышит, мужские рыдания слушает, а ей самой на душе все легче и легче становится. Крест ее пригибать к земле перестал. Какой же он был легонький.
Сердце в груди расти и расти начало. Большое — во всю грудь — стало и до краев любовью и жалостью к страждущему ближнему наполнилось.
Нагибается ниже и ниже. Тихо, бережно за плечо тронула.