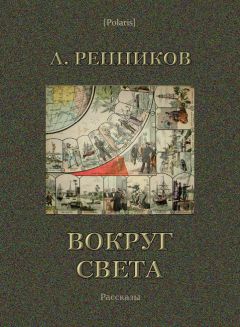Коллектив авторов - Железная земля: Фантастика русской эмиграции. Том I
Скорее… Скорее домой… Домой!
Указатель скорости закачался, как маятник… Стало опасно. Алехин передвинул назад… Указатель успокоился и только слегка вздрагивал в стеклянной коробке.
Делалось жарко… Алехин опустил шелковую занавеску. Все в кабинке утонуло в глубокой тени.
Домой!
Да где же он, дом?
Налево четкая кайма знакомых вершин. Вон и скалы, где в чертовой дыре должен быть его завод. Над ним ни дымка, ни отсвета. Рощи? Изумительные по мощи и красоте рощи, где каждое дерево, как царь, одиноко стоит посреди своей зеленой площадки и помнит времена крестовых походов. Сады?.. Древний город весь в башнях, воздвигнутых Римом цезарей; башнях, которых средневековье точно броней одело барельефами?.. За городом его владения. Его чудесные парки. В прохладной и ароматной тени их сейчас же должны быть и Юю и Митя. Не ошибся же он — тут это, тут. Вон каменный перст, указующий небо — утес св. Николая. И к нему лестница гигантов — ступени доломитов.
Да, это тут… тут… Сейчас… Сию минуту…
И везде железная кора. Стальной блеск. И в воздухе, уже накалившемся под солнцем, тот же кисловатый запах стали.
С головокружительной быстротой, едва управляя рулем — руки дрожат и сердце холонет — Алехин широкими кругами спускается к земле, его земле. Уже не смотрит на розовый огонек карты. Его не уловить сейчас. Пульс регулятора тоже не усчитаешь. Весь в сплошном треске… Только над своим прудом Алехин пришел в себя и повернул рычаг предохранителя… Прудом… В который так четко смотрелись лавры и магнолии… Дом… Белый в террасах… Плоская кровля вся в азотеях… Балконы… Да где же все это? Стальная потрескавшаяся кора хранит еще их очертания, но и там нет жизни, нет движения.
Машина уже бежит по твердой почве. Мягко скользят ее колеса…
Алехин выскакивает. Оглядывается. Земля под ним звенит, как сталь и как сталь накалилась. Жжет подошвы.
— Тут… тут ведь было… Где же… Где?'
Кричит во всю мочь. Даль отзывается опять, как стальная стена. Далеко уносятся странные звуки… Чу? Чей это голос? Ответ ему?
Повернулся туда… Никого… Его старые кипарисы. Стоят длинными иглами в высь, ни хвои, ни ветвей. Стальные иглы. От древней аллеи — железные пни. Солнце везде. Раскаляет и непроницаемую кору земли и остов сказочного сада. Остро сверкает на стальной земле, отражается на стальных стенах мертвого дома… Под ногами? Алехин ткнул ногой. Приросло. Неужели его остроносый шпиц? И тоже твердый, как металл… Ударил… Звенит. Холодный ужас перед чем–то роковым, неисправимым, неизменным… Хочет крикнуть — хрипит. С болью вырываются звуки… И на хрип ему отзывается кто–то…
Бежит туда.
Дыра в землю…
— Сергеев… Вы?
Сергеев шелохнулся… Показывает в колодезь.
— Там… Там… Все вас ждали.
Плохо различимые ступени. Только верхние видны.
— Жена… ребенок.
— Там… Там.
Колодезь был когда–то… В глубине чуть ли не пятидесяти сажень, не доходя до воды, погреб. Вырыт в незапамятную старь. Сказывают: народ прятался от диких тогда мадьяр, потом от турок… Алехин стремительно спускается. Чудо, как не скользнет. Ведь от ужаса, от предчувствия чего–то страшного, еще более страшного, чем вся эта железная сказка, ноги срываются. Едва–едва дрожащие руки схватываются за кольца в стене. Внизу слабый–слабый мерещится желтым пятном свет. Оттуда рыдания, вопли, голоса, прерываемые истерическим криком, безумием. Взвизгивания, точно хлещут бичами живое тело… Проклятия. Не распахнулись ли врата в ад, веру в который давно утратило человечество?
— Юлия… Юю… Юлия… Жива?…
Исхудавшая. Желтый скелет… цепко хватается за него. Вокруг его шеи смыкаются когти, а не руки. Она… Неужели она? Его Юлия? Точно в черепе черные впадины. В черных впадинах сумасшествие. Не глаза, а красные угли. Огнем палят. Слабый желтый свет догорающей лампы на желтой коже, присохшей к черепу.
— Митя?.. Митя?..
Костлявая кисть стискивает ему пальцы… Тянет в сторону.
— Вот… Вот…
Сбрасывает что–то.
— Митя… Митя!.. Митя!
Железное тело… Очертания ребенка…
— Далеко был… Спасти не могли. Потом нашли… каменного. В нем еще билось, билось.
— Что билось?
— Сердце.
— Митя… Митя!..
— Что ты кричишь, папа… Я никуда не ушел… Я здесь.
— Ты… ты… живой… не железный?
Ребенок с испугом отодвинулся.
Солнце В окна. Алехин жмурится. Вот оно, мягкое, теплое тельце рядом. Алехин схватил его. Ощупывает руки… ножки… Живое, живое, нежное… Отбивается.
— Не шекоти, папочка… Ай!
Сон? Только сон. Волна радости кружит голову.
— Это ты кричишь, что с тобой?
В дверях Юю… Розовая, свежая, как это утро. Ветви шелестят в окно. Одна оттуда в спальне. Вся в цветах. Зеленоватый свет от деревьев заливает все. Зыблется на стенах. Какой чудесный аромат… Прохлада. Дрозды распелись в саду, щебечут синицы, воркуют горлицы, где–то во все горло хвастается петух. Фонтан звонко сказывает вечную сагу.
Алехин подымается… Какое счастье! Каждый нерв, каждая жилка чувствует его.
— Фу ты! — точно отмахивается он ночных призраков.
Длинные синие тени кипарисов. Благоуханное «здравствуй» жасминов. Самовар закипает. Юю в белом пеньюаре наклонилась над чайником. Смеется.
— Никогда больше не дам тебе грибов на ночь.
— Какие тут грибы. Железные…
Митя взбирается к нему на колени. Болтает ножками. Шпиц принимает это за личную обиду. Тявкает на него. Алехин с наслаждением слушает песню самовара и птичий гомон. Смотрит на воробьев слетающихся к столу. Любуется ими. Особенно один бесхвостый. Боевой. Между своими, поди, считается героем. Никогда еще голос жены так не стучался в его сердце. Вдали в глуби аллеи показывается Петр Федорович с громадным белым букетом.
— Японские мукури распустились, — кричит издали. — Как пахнут!
— Зачем рвете! Сами говорите: им больно…
— Это для Юлии Александровны, Митя! — оправдывается студент.
— Для мамы? И для мамы все равно им больно.
С полей долетает песня. Как вольная птица купается в теплом воздухе. В стороне — другая… Обе сплетаются. Алехин с наслаждением слушает.
— На железной земле не поют.
— Что? На какой железной земле… Я о такой не слышала. Где она?
— Здесь и нигде… Впрочем, успокойся… Это все от грибов, — засмеялся он.
Юлия Александровна положила ему на лоб мягкую ладонь.
— Ты заработался. Тебе надо отдохнуть.
— Да, надо… надо… Я уже решил. Помнишь, мы читали о сказочном Багдаде и великолепной некогда Бассоре? Так вот… Хорошо на время отойти от… культуры… Опроститься… на полгода уедем… Египет. Месопотамия. Туда, где сливаются библейские реки Тигр и Евфрат. К Шат — Эль-Арабу. В мусульманскую нирвану. В царство предопределения… К людям XIX-го века, если они еще остались на земле.
* * *— Слушайте, Сергеев… Вот эту разобрать и развинтить надо…
— Посылать будете куда?
— К черту на рога. Хорошо, что вы вчера погасили. Холодная!
Собрал в папку с надписью «железная земля» вычисления для новой адской машины, чертежи, сметы, заметки, рисунки. Весь ее послужной список. И подошел к ярко разгоревшемуся камину. Остановился… Вот оно здесь в руках
— его власть над миром, небывалое могущество, честолюбивые мечты, все, что заставило бы народы земли преклониться перед его единой волей. И какой ценою! Три года работал. Над чем! Железная земля. Вся в стальной коре. Мертвая, как застывшая планета.
Оглянулся. В открытый окна далеко раскидывался сияющий, ликующий, цветущий божий мир. В чистой святой лазури тонули горы. Легкий ветерок с полей колыхал верхушки кипарисов.
Швырнул пачку в огонь. Взял щипцы и разворотил, когда она занялась. По чернеющим страницам бежали золотые строки. Листы свивались и корчились, прежде чем вспыхивали ярко. С ненавистью забивал их в раскаленный уголь. — Туда и дорога!
«Жжет… Должно быть, не удалось! — сообразил Сергеев.
— А сколько старался!»
И с сожалением покачал головой…
— Сейчас разбирать?
— Чем скорее, тем лучше.
— Посылать будете куда?
— Плавильня у нас работает?
— Да.
— Все туда. Уеду на полгода. Потом опять начнем… «Только по–новому…», — закончил он про себя.
VII
Через год в Нью — Йорке съезд ученых и изобретателей со всего культурного мира. Собрались на этот невиданный праздник великаны ума и воображения, перед которыми давно преклонялось человечество. Зрители узнавали их по портретам. Эдисон, Маркони, Эйнштейн, Алехин, Резерфорд и с ними молодые, уже занявшие почетное место в науке. Трудно было определить, кому слушатели громче и восторженнее аплодировали — тем ли, кто создавал гигантские страшные орудия для истребления человечества или работавшим над уничтожением до тех пор непобедимых эпидемий и бедствий, над творчеством новых путей к счастью, богатству и благополучию всех племен и народов нашей злополучной земли. Боевые легенды еще отуманивали умы. В переживших былых богатырей преданиях о жертвенном мужестве, слепящих подвигах, рыцарстве сияло столько старой красоты, что слушатели забывали ужас, беспощадность и стихийность новой войны. Когда то она была поединком, теперь стала решением технических задач… издали. Благородство, личное самоотвержение примера и показа были вычеркнуты из страниц современного Плутарха. Противники, зарываясь в землю, захлебываясь кровью, задыхаясь в корчах от смертельных газов, миллионами гибли, даже не видя одни других. Не было восторга мести, ненависти… Шли, как бараны на убой, оставляя позади нищету сиротевших семей, которым не могло помочь государство даже в случае победы. На это ведь не хватило бы никаких средств! Разрушались и не воскресали города. Сады земли обращались в бесплодные пустыни. Землю некому было обрабатывать. Вслед за жертвами этой новой войны шли тюрьма, виселица и проституция. Суворовых, Скобелевых, Наполеонов и Мольтке сменили кабинетные ученые. Их совесть и сердце молчали, для них битва была решением той или другой теоремы и ее применения на боевых полях они не видели. Из своих кабинетов они направляли удары за сотни и тысячи верст на рубежи, где, как черви в земле, зарывались неприятельские армии. И там, где когда–то, «во времена варварства», струились ручьи крови, теперь разливались моря ее…