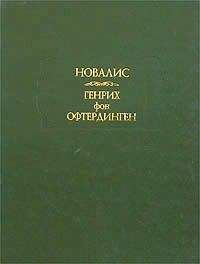Новалис - Гейнрих фон Офтердинген
— Вы верно видели красивые местности по дороге?
— Мы почти непрерывно созерцали очаровательные виды природы.
— А ваш родной город тоже красиво расположен?
— Местность наша довольно разнообразна, но она еще дикая, и нам недостает большой реки. Вода — очи природы.
— Рассказ о вашем путешествии, — сказал Клингсор, — доставил мне большое удовольствие вчера вечером. Я вижу, что вас сопровождал дух поэзии. Ваши спутники незаметно сделались голосами его. Вокруг поэта всюду возникает поэзия. Родина поэзии, романтичный восток, приветствовал вас своей сладостной скорбью; война открылась вам во всем своем диком величии, а природа и история встретились вам в образе рудокопа и пустынника.
— Вы забываете самое лучшее, милый учитель — небесное откровение любви. Только от вас зависит, чтобы любовь стала навеки моей.
— А ты что скажешь на это? — спросил Клингсор, обращаясь к Матильде, которая подошла к нему. — Хочешь быть неразлучной спутницей Гейнриха? Там, где будешь ты, останусь и я.
Матильда смутилась и бросилась в объятия отца. Гейнрих задрожал от бесконечной радости.
— Разве он захочет быть моим вечным спутником, милый отец?
— Спроси его сама, — растроганно сказал Клингсор.
Она с глубокой нежностью взглянула на Гейнриха.
— Моя вечность — твое создание, — воскликнул Гейнрих, и слезы потекли по его нежному лицу. Они обняли друг друга. Клингсор заключил их в свои объятия.
— Дети мои, — воскликнул он, — будьте верны друг другу до самой смерти. Любовь и верность превратят вашу жизнь в вечную поэзию.
Глава восьмая
Днем Клингсор повел к себе в комнату своего нового сына, в счастьи которого приняли живейшее участие его мать и дедушка, видя в Матильде его ангела-хранителя. Он стал показывать юноше свои книги, и они завели разговор о поэзии.
— Не знаю, — сказал Клингсор, — почему считают, что признавать природу поэтом значит творить поэзию. Природа не всегда проявляет свой поэтический дар. В ней, как и в человеке, есть противуположное начало, слепое вожделение, тупое бесстрастие и вялость, ведущие неустанный спор с поэзией. Эта мощная борьба могла бы быть прекрасным сюжетом для поэмы. Некоторые страны и времена, как и большинство людей, по-видимому, совершенно во власти этого врага поэзии; в других же, напротив того, поэзия жива и проявляется во всем. Для историка периоды этой борьбы в высшей степени интересны, а изображение их — приятное и благодарное дело. В такие времена и рождаются обыкновенно поэты. Противной стороне неприятнее всего, что она, противопоставляя себя поэзии, сама становится поэтичной, и нередко в пылу обменивается с нею оружием, так что ее ранят ее собственные коварные стрелы; а раны поэзии, причиненные ей собственным оружием, легко заживают и делают ее еще более очаровательной и сильной.
— Вообще, война, — сказал Гейнрих, — как мне кажется, возникает всегда из поэтических побуждений. Люди думают, что должны сражаться ради какого-то жалкого достояния, и не замечают, что ими управляет романтический дух, стремящийся уничтожить ненужное зло им же самим. Они сражаются во имя поэзии, и оба войска следуют за невидимыми знаменами.
— В войне, — сказал Клингсор, — сказывается движение первобытных сил. Должны возникнуть новые части света, из великого разложения должны вырасти новые поколения. Истинная война — война религиозная; она ведет прямо к гибели, и безумие людей проявляется во всей своей полноте. Многие войны, в особенности те, которые вызваны национальной враждой, относятся к тому же разряду, и это настоящие поэмы. Они создают истинных героев, которые, как самый благородный противообраз поэтов, ничто иное, как мировые силы, непроизвольно проникнутые поэзией. Поэт, который был бы вместе с тем героем, сам по себе небесный посланник, но изобразить его наша поэзия не в силах.
— Что вы хотите этим сказать, милый отец? — спросил Гейнрих. — Может ли что-нибудь быть слишком высоким для поэзии?
— Конечно. Но в сущности не для поэзии, а только для наших земных средств и возможностей. Уже каждый отдельный поэт должен ограничиваться своей областью, в пределах которой ему приходится оставаться, чтобы устоять и не задохнуться; точно так же для всей совокупности человеческих сил есть определенная граница воссоздаваемости; за этими пределами изображенное не может быть достаточно осязательным и превращается в пустое, обманное уродство. В особенности в период учения нужно чрезвычайно беречься всяких излишеств, ибо живая фантазия любит подходить к границам и, возгордившись, стремится охватить чрезмерное и выразить его. Более зрелый опыт учит избегать несоразмерности и предоставляет мудрости отыскивать самое простое и высокое. Поэт постарше не стремится подняться выше, чем нужно для того, чтобы распределить весь свой богатый запас в легко понятном порядке; он сознательно не отказывается от многообразия, которое ему дает достаточно материала и нужные сравнения. Я хочу сказать, что во всяком поэтическом произведении должен сквозить хаос сквозь ровную дымку согласованности. Богатство творческой выдумки делается понятным и привлекательным только при легком изложении, в то время как одна только равномерность имеет неприятную сухость арифметики. Хорошая поэзия та, которая нам близка, и нередко ее любимым содержанием становится нечто самое обыденное. Орудия поэтического творчества ограничены; именно это и делает поэзию искусством. Язык вообще имеет определенные границы. Еще более тесен объем каждого народного наречия. Поэт научается своему языку путем упражнения и размышления. Он точно знает, что может сделать своим языком и не станет тщетно напрягать его выше сил. Лишь редко обращает он все силы языка на один пункт; этим бы он утомил и сам уничтожил драгоценное действие умело примененных и сильных выражений. К странным вывертам приучает язык лишь фокусник, а не поэт. Вообще, поэты должны как можно более учиться у музыкантов и живописцев. В этих отраслях искусства видно, до чего экономно следует обходиться с вспомогательными средствами искусства и как важно во всем умелое распределение. Зато, конечно, музыканты и живописцы должны были бы с благодарностью заимствовать у нас поэтическую независимость и внутренний дух каждого стихотворного произведения и измышления, вообще каждого истинного произведения искусства. Им следовало бы сделаться более поэтичными, а нам более музыкальными и живописными, — конечно, в духе нашего искусства. Не содержание цель искусства, а выполнение. Ты сам увидишь, какие песни тебе лучше всего удаются; наверное, те, содержание которых тебе наиболее ясно и знакомо. Поэтому можно сказать, что поэзия основывается всецело на опыте. Я сам знаю, что в молодые годы я охотнее всего воспевал самое далекое и незнакомое. Что же из этого выходило? Пустая, жалкая шумиха слов, без искры истинной поэзии. Поэтому даже сказка очень трудная задача, и молодой поэт редко в состоянии хорошо выполнить ее.
— Мне бы хотелось, чтобы ты рассказал мне сказку, — сказал Гейнрих. — Те немногие, которые я знаю, несказанно нравятся мне, как бы они ни были незначительны.
— Сегодня вечером я исполню твое желание. Я помню одну сказку, которую написал в еще сравнительно молодые годы. Это ясно в ней сказывается; но, может быть, она будет для тебя тем более поучительной и напомнит тебе многое из того, что я тебе говорил.
— Язык, — сказал Гейнрих, — действительно маленький мир знаков и звуков. Так же, как человек владеет ими, он бы хотел владеть всем миром и свободно проявлять себя в нем. И именно в этом желании проявить в мире то, что находится вне его, в этом стремлении, которое является основным влечением нашего бытия, и лежит основа поэзии.
— Очень жалко, — сказал Клингсор, — что поэзия имеет обособляющее ее название и что поэты составляют отдельное сословие. В поэзии нет ничего необычайного. Она основное свойство духа человеческого. Разве каждый человек не творит и не мыслит в каждую минуту? — Матильда только что входила в комнату, когда Клингсор еще прибавил: — Возьмем, например, любовь. Ни в чем необходимость поэзии для сущности человеческой жизни так ясно не проявляется, как именно в любви. Любовь безмолвна, и только поэзия может говорить за нее: или же можно сказать, что любовь не что иное, как высшая поэзия природы. Но зачем говорить тебе то, что ты сам знаешь лучше меня.
— Ведь ты отец любви, — сказал Гейнрих, обняв Матильду, и оба они поцеловали ему руку.
Клингсор обнял дочь и вышел из комнаты.
— Милая Матильда, — сказал Гейнрих после долгого поцелуя, — мне кажется сном то, что ты моя; но еще более изумляет меня, что ты не была всегда моей.
— Мне кажется, — сказала Матильда, — что я знаю тебя с незапамятных времен.