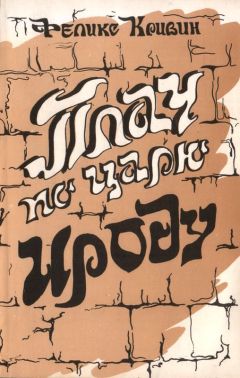Евгения Сафонова - Полуденный экспресс
— Зато старый папа был моим папой, — вздохнула я, потянув его в булочную.
Оттуда вышли с пакетом, полным слоек, плие и тарталеток, а также большим батоном восхитительно свежего, ещё горяченького белого хлеба. Немедленно отломив по куску и выев мякиш, мы прошли по зелёной аллее скверика мимо парочек, целующихся на лавках, и спустились к берегу пруда. Владыки вод, — два лебедя, чёрный и белый, — скользили по глади отражённого неба, удостаивая пришельцев царственно-любопытными взглядами. Мы сели на выложенный гранитом бережок, кинули поломанные на мелкие куски горбушки в воду и затихли. Спустя какое-то время лебеди, подозрительно косясь, таки изволили подплыть поближе и, изящно изгибая и без того изящнейшие шеи, принялись выуживать из воды разбухший, уже тонущий хлеб.
— Эх, хорошо у тебя тут, — вздохнула я, любуясь лебедями. Напротив нас белел лепниной павильон — из открытых окон расположившегося в нём ресторана вытекала и разливалась над водой музыка. Было слышно, как в дальнем конце сквера резвятся вездесущие дети: одни гоняются друг за дружкой вокруг памятника старому баснописцу, другие носятся на детской площадке.
— А я вот всё жду, когда тебе надоест приезжать, — папа стряхнул с рук хлебные крошки. — Когда ты вырастешь и научишься обходиться без меня.
— А я никогда не повзрослею, пап. Я же сказочница. У нас врождённый синдром Питера Пэна.
— Ах, да. Чтобы писать для детей, нужно самому оставаться ребёнком?
— Как-то так, — кивнула я. — Я никогда не смогу захлопнуть дверцу в сказку. Это же я её создала.
Отец вздохнул:
— Эх, а я-то так надеялся скоро переехать куда-нибудь к морю…
— Когда-нибудь переедем вместе, — заверила я его. — Я тогда буду старая и дряхлая, и мне будет жизненно необходимо греть косточки.
— Нет, думаю, сюда ты приедешь женщиной в самом расцвете сил, но погреть косточки всё равно не откажешься, — папа отломил ещё одну горбушку. — Мама… так и не простила?..
— Нет. И в церкви с тех пор не была, — я последовала его примеру и теперь катала белый мякиш между пальцами. — Она как тогда прокляла всё на свете… когда ты ушёл… Так с тех пор и не смирится.
— А ты говорила ей, что она неправа?
— Говорила. Она не слушала и не хочет, — я метнула готовый шарик в воду. — Только говорит, что это хорошо, что я другой человек.
— Ясно, — папа достал из пакета грушевую тарталетку. — Ну, может, когда-нибудь я сам ей объясню.
— Думаешь, вы всё-таки встретитесь… когда-нибудь?
— Когда-нибудь? Уверен.
— А как же Ваня?
— Не знаю, не знаю. Но, думаю, даже если она не сможет жить на два дома, то вполне способна будет заходить иногда в гости.
— Когда-нибудь?
— Когда-нибудь…
Лебеди, расправив крылья, снисходительно оглянулись на нас в последний раз и поплыли прочь — к другим жаждущим их покормить.
Разделив по-братски оставшийся хлеб, мы откинулись спинами на зелёную травку, поросшую по крутым бережкам пруда. Долго болтали на уже не столь грустные темы, попутно глядя в небо и лихо разделываясь со сладким.
— Всё, не могу больше, — я решительно отказалась от очередной слойки. — Лучше угости бабушку с дедушкой.
— А ты не зайдёшь?
— В следующий раз, наверное, — я посмотрела наверх, на солнце, просеивавшееся сквозь осеннюю листву: в его свете падавшие листья казались солнечными лепестками. — Обратный экспресс уже скоро… Не хочу потом бежать.
— Да, это верно. Ну ничего, в следующий раз сразу домой пойдём, — папа встал на ноги. Протянул мне руки, помогая подняться. — Когда тебя ждать?
— Не знаю. А если бы знала, то не сказала бы.
— Ну да, ты же так любишь сюрпризы, — папа потрепал меня по макушке. — Фантазёр.
Взобравшись по крутому бережку обратно в скверик, мы, не торопясь, побрели обратно. Я, размахивая пакетом с булками, оживлённо вещала про наших профессоров, феномен новомодных фантастов и прелести альтернативы. Папа со мной соглашался. Он всегда со мной соглашался — не поддакивая, а просто потому, что сам считал так же. В отличие от мамы и кого бы то ни было ещё.
Когда мы поднялись на платформу, фары поезда как раз мигнули из-за дальнего поворота.
— Держи. Спасибо, — я отдала ему куртку. Тяжёлая же, однако! — Она жутко тёплая, кстати.
— Вот и думай о преимуществах натуральной кожи перед всякими новомодными финтифлюшками, — заметил папа.
— Подумаю-подумаю, — пообещала я.
Экспресс уже тормозил, на ходу распахивая гостеприимные двери.
— Передал бы маме привет, но, боюсь, она не поймёт, — папа улыбнулся. — А ты давай не болей! И улыбайся. Улыбаться полезно.
Я послушно улыбнулась. Обняла его в последний раз — и, прыгнув в поезд как раз перед отправлением, из окон тамбура смеялась отцу, бежавшему наперегонки с разгоняющимся вагоном. Вот кончилась платформа, вот он замер, улыбнулся, помахал мне рукой — и пропал, оставшись в решительном «позади».
Я раздвинула двери, села в вагон и надела наушники.
Странно, но обратный путь всегда был короче. Вроде бы ещё и пяти песен не прослушала, а экспресс уже тормозил у пустынной станции. Выйдя, я проводила взглядом поезд, со звонким гуденьем уносящийся за горизонт — а потом, развернувшись, сошла с платформы и зашагала в центр города.
По дороге заглянула в цветочный магазинчик, купив букет гвоздик. Осенняя серость и дождевая пыль окутывали дома, машины, прохожих и прочий антураж полупровинциального городка. Центральную улочка забила пробка — я представляла, как уныло гнусавят автомобильные гудки. Хорошо, что наушники защищают меня от этого…
Путь до кладбища занял минут пятнадцать. Зонт я не взяла, но промокнуть не успела — лишь пришлось застегнуть ветровку, когда свитер стал влажным.
У могилы меня ждали.
— Привет, — чуть улыбнулся Ваня, стоявший у ограды с дипломатом в руках.
— Привет, — я удивлённо вскинула бровь. — Чего не на работе?
— Проверил своих бестолковых подчинённых да решил домой вернуться. Вале надо помочь соленья закрывать, а у тебя же учёба, я знаю, — он кинул взгляд на букет красных роз у памятника. — Она сказала, что ты будешь здесь. Я решил тебя забрать, раз по пути.
Я кивнула. Отвернувшись от отчима, зашла за ограду. Опустилась на колени, положив букет белых гвоздик рядом с розами. Какое-то время сидела, глядя на цветы. Потом подняла взгляд на фотографию совсем ещё молодого мужчины — он не улыбался, но даже на кладбищенском памятнике в сером взгляде светилась улыбка.
Красные розы… Значит, мама зашла по пути на работу.
«Жаль королеву, такой молодой», — вспомнилось почему-то.
Мне с двенадцати лет часто вспоминается этот стих. Даже несмотря на то, что тело отца нашли не у старого дуба, а в искореженной кабине машиниста сошедшего с рельс поезда.
Я встала и вышла за ограду. В осеннем воздухе разливался трезвон, возвещая об окончании литургии.
Покров Богородицы…
— Поехали? — спросил Ваня.
— Поехали.
В последний раз посмотрев на фотографию, я улыбнулась чему-то и вслед за отчимом направилась к кладбищенским воротам.
Зачем электричкам нужны перерывы? Всегда интересовал этот вопрос. Иногда меня заносило на платформу во время дневных перерывов, с одиннадцати до часу. Летом, когда идёшь гулять, самое милое дело: сесть на лавочку с бутылкой сока и какой-нибудь булкой, уткнуться в книжку, наслаждаться солнцем и ветреным шумом идущих мимо экспрессов. Я всегда любила смотреть на поезда, пусть даже просто проносящиеся вперёд — папа-машинист заразил.
Иногда мне думалось: а вдруг какой-нибудь экспресс возьмёт и остановится? Двери его откроются, и поедет он в волшебные края: куда же ещё может поехать экспресс, который не должен был остановиться…
Но мысли материальны, как известно. И однажды, ровно в полдень, один экспресс взял да и остановился. А я, недолго думая, запрыгнула внутрь — и приехала на тихую светлую станцию, где ждал кого-то человек, который тоже всегда любил смотреть на поезда.
Конечно, любой скажет мне, что такого не может быть. Что невозможно просто взять и съездить в гости к тем, кого уже нет. Что экспрессы никогда не останавливаются в перерывах. Что на самом деле я просто посмотрела на экспресс, пронесшийся мимо, и осталась сидеть на перроне, думая о том, что могло бы быть, если бы он остановился.
Может, так оно и было.
Я знаю, что я ничего не знаю. Честно. Я знаю только, что не надо отчаиваться, когда кто-то уходит от нас туда, где мы не можем его догнать. Пока мы помним и любим, всегда найдётся полуденный экспресс, который отвезёт нас на залитую солнцем станцию, где кто-то всегда будет ждать подъезжающих поездов. Пусть даже станция эта есть лишь в нашей памяти — или чём-то более эфемерном, но не менее важном, чем память.
Ведь где-то всегда есть место, где помнят и любят нас они. Помнят, любят — и ждут.