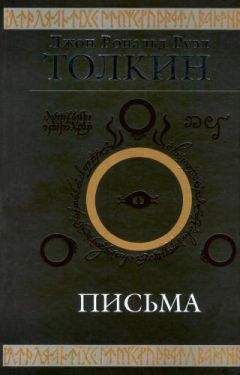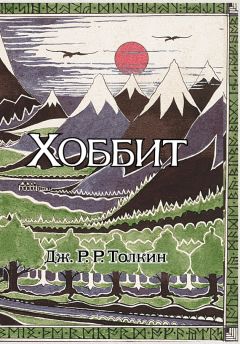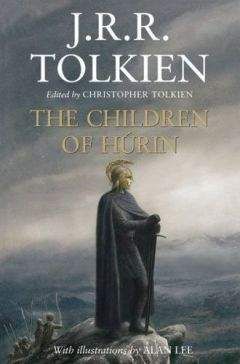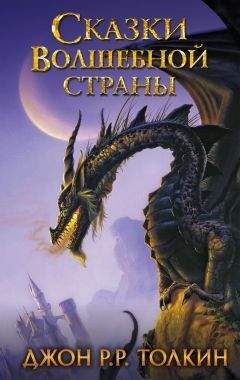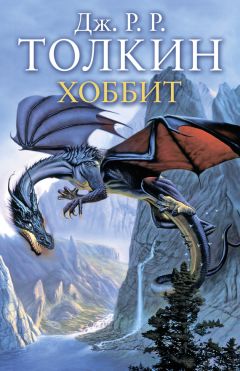Новалис - Генрих фон Офтердинген
Генрих был поэтом от природы. Казалось, множество разных случайностей совпало, чтобы своим единением воспитать его, и до сих пор его внутреннее становление шло беспрепятственно. Ставни как будто одна за другой распахивались в нем от всего виденного и слышанного, являя новые окна. Перед ним простиралась жизнь в своих всеобъемлющих, переменчивых узах, пока еще безмолвная, так как речь, ее душа, не пробудилась. Уже не за горами был поэт со своей прелестной спутницей, готовый разными ладами, упоительной лаской поцелуя, отомкнуть робкие губы, чтобы простой аккорд развился в мелодиях, которым нет конца.
Между тем наши путешественники, целые и невредимые, достигли своей цели. Вечер застал их уже в городе Аугсбурге, славном на весь мир, и, предчувствуя новую радость, они устремились по улицам туда, где высился гостеприимный дом старого Шванинга[69].
Генрих залюбовался непривычными видами. Лихорадочная толчея среди громоздких каменных зданий смущала и зачаровывала. Про себя Генрих восторгался обителью, где ему предстояло гостить. После всех дорожных тягот мать Генриха с великим удовольствием узнавала свой милый родной город, уже готовая обнять своего отца и своих близких, которые, конечно, рады будут видеть ее сына, и ей самой удастся наконец забыть домашние хлопоты, на досуге задушевно вспоминая свое девичество. Купцы предвкушали здешние увеселения, а также торговые прибыли, ради которых стоило терпеть неудобства в пути.
Подъехав к дому старого Шванинга, они увидели яркий свет, и музыка радостно грянула им навстречу.
— Так и есть, — сказали купцы. — У вашего дедушки веселятся. Мы приехали в самую пору. Уж таких-то гостей ваш дедушка не ждал. Он даже не подозревает, какой праздник приближается.
Генрих оробел, мать заблаговременно оправляла свое платье, насколько это было возможно. Они спешились, купцы задержались подле лошадей, а Генрих с матерью вошли в дверь великолепного дома. Никого из домочадцев не было видно внизу. Просторная винтовая лестница вела наверх. По этой лестнице мимо них спешили слуги, которым они поручили передать старому Шванингу, мол, приезжие хотят сказать ему словечко-другое. Слуги не сразу согласились, путники на первый взгляд были неказистые, однако потом слуги вспомнили просьбу, и старый Шванинг не замедлил появиться. В недоумении он осведомился сперва, как величать их и по какому делу они приехали. Мать Генриха с плачем упала к нему на грудь.
— И вы больше не помните родной дочери? — воскликнула она, всхлипывая. — Вот ваш внук!
Старый отец, глубоко растроганный, надолго заключил дочь в свои объятия. Генрих преклонил перед ним колено, коснувшись губами его руки. Дед поднял внука, и сын вместе с матерью очутился у него в объятиях…
— Что же вы стоите здесь, — молвил Шванинг, — у меня там чужих нет. А свои все порадуются сердечно вместе со мной.
Мать Генриха замялась было в нерешительности, но не успела собраться с мыслями. Отец повлек их за собою в зал, празднично сверкающий под своими высокими потолками.
— Ко мне приехали дочь и внук из Эйзенаха, — раздался голос Шванинга в зале, где беззаботно суетились пышно разодетые гости.
Вошедшие привлекли всеобщее внимание, все поспешили к ним, даже музыканты перестали играть, и наши путешественники, еще покрытые дорожной пылью, не могли не растеряться, оказавшись в обществе, таком красочном, что в глазах рябило. Тысячи приветственных возгласов теснились на устах. Вокруг матери толпились прежние подруги. Расспросам не было конца. Каждому не терпелось напомнить о прошлом, обменяться приветствиями. Пока старшие наперебой обращались к матери, те, кто помоложе, пристально всматривались в приезжего юношу, а тот стоял потупившись и не отваживался ответить на взоры таким же любопытным взором. Дед представил внука остальным своим гостям и принялся расспрашивать его об отце и о том, не было ли каких-нибудь приключений в дороге.
Тут мать спохватилась: купцы со своей обычной обязательностью все еще присматривали на улице за лошадьми. Едва услышав об этом, старый Шванинг заторопил слуг: просите, мол, купцов сюда. Для лошадей нашлось помещение, и купцы пожаловали.
Оберегавшие дочь старого Шванинга в дороге, купцы выслушали его искреннюю благодарность. Многих гостей они встречали раньше, что придавало приветствиям непринужденность. Мать была бы рада переменить платье. Шванинг отправился в свои покои с нею и с Генрихом, который тоже был озабочен своим нарядом.
Среди всего общества особенно поразил Генриха некий муж[70], чей образ, помнится, часто сопутствовал ему в заветной книге. Этот величавый облик[71] словно затмевал остальных. Дух бодрый и строгий угадывался в чертах его. Прекрасное, высокое, выпуклое чело, твердый взгляд больших черных, как бы всевидящих очей, что-то плутовское в уголках смеющегося рта и при этом выражение неотразимого мужества покоряли вещим обаянием. Спокойная сила проявлялась в каждом его движении; крепкий и статный, он был везде на своем месте, готовый занимать это место хоть целую вечность. Генрих обратился к деду с вопросом, кто он такой.
— Мне приятно, — ответил старик, — что он сразу же привлек твое внимание. Это Клингсор, поэт, мой прославленный друг. Гордись такой встречей; дружба Клингсора драгоценнее императорской приязни. Но где же твое сердце? Разве дочь его не прекрасна? Надеюсь, впоследствии ты предпочтешь дочь отцу. И ты проглядел ее? Удивляюсь, просто удивляюсь!
— Я же был в замешательстве, любезный дедушка, — оправдывался Генрих, краснея. — Там столько разных лиц, и, признаюсь, я глаз не сводил с вашего друга.
— Это влияние Севера, — молвил Шванинг. — Мы отогреем тебя. У нас наверное ты научишься ценить прекрасные глаза.
Принарядившись, Генрих с матерью поспешили обратно в зал, где гости собирались ужинать. Старый Шванинг представил Генриха Клингсору, поведав своему другу, какое впечатление тот произвел на Генриха с первого взгляда и как жаждет Генрих покороче узнать его.
Чувствуя неловкость, Генрих не находил, что сказать. Клингсор обошелся с ним дружески, завел речь о родных местах Генриха и о краях, где Генриху довелось побывать.
В речах Клингсор а слышалась такая сердечность, что юноша скоро осмелел и принялся беседовать как ни в чем не бывало. Немного погодя Шванинг вернулся к ним, на этот раз в сопровождении прекрасной Матильды[72], сказав ей: «Не откажите моему застенчивому внуку в своем любезном участии. Уж вы извините: ваш отец очаровал его прежде вас. Юность в нем пока еще дремлет, но, поверьте, сияние ваших очей оживит ее. У этих северян весна поздняя».
Генрих и Матильда зарделись. Они переглянулись как бы в недоумении. Она тихо, почти невнятно пролепетала, нравится ли ему танцевать. Не успел он сказать ей «да», музыканты заиграли веселый танец. Генрих молча пригласил ее, их руки соединились, и еще одна пара начала вальсировать среди других пар. Шванинг и Клингсор были внимательными зрителями. Мать и купцы радовались, какой Генрих изящный и какая прелестная девица танцует с ним. Старые подруги не могли наговориться с матерью и не скупились на добрые пожелания: статный юноша подавал, по их мнению, наилучшие надежды.
Клингсор молвил Шванингу:
— Лицо вашего внука располагает к нему. Оно одушевлено чистым богатым чувством, и, кажется, само сердце говорит его голосом.
— Мне бы хотелось, — ответил Шванинг, — видеть его вашим достойным учеником. Я замечаю в нем поэтическое призвание. Да преисполнится он вашего духа! Он весьма напоминает мне своего отца, хотя как будто не столь горяч и своенравен. Тот в юности тоже подавал надежды, но ему вредила некая ограниченность. Слов нет, художник, трудолюбивый, искусный, но заурядный, того ли можно было ждать от него!
Генрих рад был танцевать без конца. Как ненаглядной розой он любовался тою, с которой танцевал. Ее чистые очи отвечали ему без всякой уклончивости. В пленительном девичьем облике как бы таился дух ее отца. Огромные безмятежные зеницы возвещали вечную юность. Темные звезды нежно лучились в светлой небесной голубизне. Лоб и нос оттеняли сияние своей благородной хрупкостью. Лилия клонится поутру навстречу солнцу; такой лилией был ее лик; тонкая шейка в своей белизне являла голубые жилки, прелестно вьющиеся возле милых ланит. Ее голосом эхо откликнулось бы издалека, и, как бы увенчивая на лету это легчайшее виденье, возникала темнокудрая головка.
Больше танцевать было нельзя: накрыли на стол; кто постарше и кто помоложе сели друг против друга.
Генрих не расстался с Матильдой. Слева от него сидела юная сродница, а прямо напротив него Клингсор. Если Матильда не отличалась говорливостью, тем разговорчивее была Вероника, сидевшая слева от Генриха. Вероника сразу завязала с ним короткие отношения, в нескольких словах описав каждого из гостей. Генрих слушал не очень внимательно. Впечатления танца не проходили, и вправо его влекло больше, чем влево. Клингсор, однако, прервал Веронику, осведомившись, что это за лента с таинственными письменами и почему Генрих украсил ею свой вечерний наряд. Генрих проникновенно поведал о деве с Востока. Матильда прослезилась, сам повествователь не без труда скрывал свои слезы. Зато теперь Матильда говорила с ним; все за столом оживились. Вероника весело щебетала со своими подругами. Отцу Матильды случалось бывать в Венгрии[73], и Матильда описывала Генриху эту страну, обрисовывала жизнь в Аугсбурге. Никто не скучал. Музыка победила чинную сдержанность и прельщала беззаботной утехой каждого, каковы бы ни были его склонности.