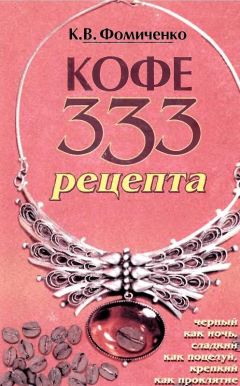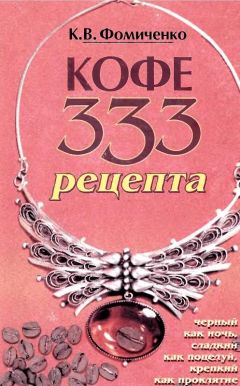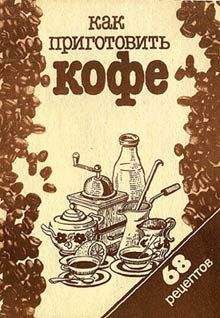Любовь Овсянникова - Нептуну на алтарь
А еще у него было сердце, нуждающееся в чувствах, светлых переживаниях, бурных эмоциях, в счастье. Это — неоткрытый остров в нем, таинственная terra іncognіta. Она привлекала к себе, звала, заманивала. И Николай с готовностью отвечал на Лидины письма, описывал по ее просьбе море, каким оно бывает в штиль и в шторм, какие при этом приобретает цвета, как звучит. ‹‹А еще здесь есть птицы, непохожие на наших степных, — чайки, — писал он девушке. — Они предсказывают погоду лучше метеорологов, о чем говорится в моряцкой прибаутке:
Чайки ходят по песку — рыбаку сулят тоску,
И пока не сядут в воду, штормовую жди погоду››.
— Товарищ старшина, а тебе начали чаще приходить письма, еще и с незнакомым почерком, — говорили матросы его отделения.
— Заметили, негодники. За командиром «шпионствуете»? — шутливо отмахивался он.
— Правильно, надо привыкать к гражданской жизни, о женитьбе думать, — говаривали те, кто уже задумывался об окончательном сходе на берег.
— На свадьбу позовете? — смелели другие парни.
— Да еще речи нет о свадьбе, — сознавался Николай, не обращая внимания на слишком неофициальный тон.
Он и сам старался разобраться в том, что их связывает с Лидой. Она давно нравилась ему, но он и предположить не мог, что когда-то приблизится к ней. Смешно теперь даже вспоминать, что раньше он не воспринимал Лиду как личность. Она была для него красавицей, да и только. А когда увидел ее с ребятишками, внимательную к ним и сдержанную, серьезную и ответственную, в нем будто все перевернулось. Девушка была умной, уравновешенной, степенной. Значит, он совсем не знал ее, и вот имеет возможность узнать ближе. Поэтому Николай старался не навязывать в письмах к Лиде свою откровенность, не пугать ее натиском признаний, не беспокоить планами на будущее. Понимал, что еще будет время поговорить обо всем, осмотреться, заглянуть в себя, лучше освоиться в мире чувств — незнакомом до сих пор и волнительном, узнать, что оно такое — любовь.
Несмотря на то что Николай дослуживал последние месяцы, работы не убавилось, даже наоборот, насело множество необычных и спешных забот.
Во-первых, в 1955 году советский флот переходил с пятилетнего срока службы на четырехлетний, и в первую волну демобилизации 1956 года вместе с Николаем оставляли корабль не только моряки 1951-го, но и 1952-го года призыва. Береговые училища не справлялись с двойным потоком слушателей, который шел к ним на замену уходящих в запас. Выход нашли в том, что часть новобранцев поступала на крейсер, обходя обучение на берегу и их приходилось учить профессиям на месте. Это было новое для Николая дело, нештатное, ведь эти новички имели только знания со средней школы, а их не хватало для полноценного выполнения обязанностей электрика. Да и учить других Николаю было в новинку.
Во-вторых, жизнь экипажа все еще оставалась чрезвычайно насыщенной, так как на фоне обычных штатных обязанностей, от которых их никто не освобождал, он продолжал принимать в строй вышедший из капитального ремонта крейсер «Молотов» и оснащать его бортовым оружием. Это было не просто новое событие, довольно редкое на флоте, а важнейшие из вообще возможных в мирное время. Свободные минуты выпадали редко. Рабочий день матроса и так всегда полностью расписан, а тут еще это…
И вдруг на них сваливается дополнительно обучение новоприбывших! Вообще уникальная ситуация, никогда раньше не происходившая! Ответственное дело! Его как-нибудь не сделаешь. Опять же — обычным расписанием оно не предусматривалось и, естественно, теперь происходило за счет еще большего уплотнения времени, чем раньше, за счет увеличения интенсивности работы и частично за счет отдыха.
Такие накладки! Немыслимая круговерть! Она утомляла, выбивала из колеи, из более-менее устоявшегося ритма. Дни исчезали быстро и незаметно.
И в довершение всего — вдруг случилось несчастье, страшная трагедия с линкором «Новороссийск», омрачившая Николаю свет солнца, всколыхнувшая резкую боль, что уже начинала затихать после войны! Эта беда снова разбередила адское ощущение потери, перевернула все виденное и знаемое до этого, по-иному расставила приоритеты и ценности жизни. Он и счастлив был тем, что кормовую аварийную бригаду с «Молотова», в которую он входил, направили на помощь «новороссийцам», что он собственноручно спасал, вытягивал из смерти своих побратимов-моряков, и вместе с тем всей силой души проклинал миг, когда грохнул взрыв, проклинал тех, кто совершил это преступление. Как он может быть счастливым после этого? Он, еще не соблазненный любовью, уже знал в себе ненависть. Разве это нормально? Когда-то Леся Украинка писала:
I тільки той ненависті не знає,
Хто цілий вік нікого не любив.
Какую любовь она имела в виду — гражданскую, сыновью или любовь к женщине? Кого или что он успел так полюбить, что теперь горит ненавистью к варварам, к грубой, дикой силе? О, как он алкал мести! Как тяжело было знать, что он не бессилен, а не волен совершить ее! Он ходил, как больной, смотрел пустыми глазами на койки двух матросов, двух ребят из его электротехнического отряда, утонувших в холодной пучине вместе с «Новороссийском». Что из того, что они устроили здесь уголок памяти погибших? А как смотреть в глаза матери, той латвийской женщине, которая добилась разрешения посетить последний приют сына?
Та женщина провела в кубрике один час, и все 60 минут отчаянно плакала, причитая.
В памяти Николая всплыл расстрел сто пятидесяти восьми славгородцев в марте 1943 года, родных ему людей. Он припоминал, как они с мамой искали отчима среди растерзанных, теплых еще тел, как потом везли его телегой на кладбище, как хоронили в мерзлый грунт. И тогда это казалось ему сном. Казалось, что вот он проснется, и убедится, что это сон. Но самое сильно впечатление, отчеканившееся в душе навсегда, никогда не казавшееся сном, а остающееся ужасной правдой, — был крик Прасковьи Яковлевны Николенко. У нее на глазах немцы убили Евлампию Пантелеевну Бараненко, ее мать, — единственную женщину из всех расстрелянных. Убили прямо во дворе, под грушей, где она стояла, заламывая руки к Богу и моля пощады для своих детей.
Услышав крики и не подозревая, чем они вызваны, Николай, побежал к дяде Якову, где любил запросто пропадать на пасеке, подбежал и увидел… Запечатленная картина по сей день стоит перед глазами, будто он навсегда остался там, изваянный жутью. А за воротами все еще стоял немец, сделавший роковой выстрел. Он не успел опустить винтовку, и хищное дуло, казалось, искало новую жертву, примерялось к появившемуся во дворе Николаю, обмершему перед происходящим. Мальчишка загипнотизировано смотрел в четную точку и не двигался.
— У-и-и!!! Ой-и-и!! — неслось из уст охваченной горем женщины. — Изверги! Нелюди! — кричала она и зажимала рот рукой, боясь, что немцы поймут ее слова и отыграются на трехлетней дочке, стоящей рядом.
Из пробитого виска тети Евлампии струилась черная, густая кровь и растекалась по затылку, шее и лицу, а оттуда попадала на руки ее дочери, успевшей подбежать и обнять убитую за голову, напрасно стараясь заглянуть ей в глаза и увидеть там проблески жизни. Вытирая слезы, бьющаяся в горе женщина наносила красные мазки на свои щеки, пряча в ту материнскую плоть проклятия и стон беспомощности, ненависти и жажды мщения. И то было последнее, чем могла защитить ее Евлампия Пантелеевна, последнее — утопить в своей крови дочкину крамолу, бунт, а значит, — смерть.
— Дайте, — хрипела потерявшая силы Прасковья Яковлевна, — умере-е-ть!
Все остальные звуки терялись и глохли в этом на всю вселенную несущемся то ли вое, то ли стоне, таком тоскливом и долгом, что он казался составной частью войны, пожаров и страшных кончин.
И дрогнул немец-убийца. У него забегали глаза, задрожали руки. Он как-то косолапо шаркнул одной ногой и метнулся вниз по улице — догонять тех, кто вел на расстрел собранных по дворам мужчин. А вокруг — никого. Потом где-то далеко прозвучали немецкие команды, а еще позже послышался «Интернационал». Это пели те, кого немцы уже сбили в кучу для расстрела.
«За что мне это все, за какие грехи?» — Николай сжимал голову, а в его ушах вызванивали, усиливаясь, а потом затихая навсегда, звуки «Варяга», песни, которую пели под водой «новороссийцы», обреченные на смерть от удушья. Чего еще он не познал, не прочувствовал? Каких еще мук не испытал, каких трагедий не видел, не слышал, не представлял?
Ему тоже теперь хотелось умереть, ибо не верил уже, что лихое время отступит. Казалось, нет, он не выдержит своей боли, вот выйдет на палубу, поднимет глаза к звездам и взорвется атомным грибом протеста, удушьем кручины и развеется над миром смертельными миазмами бессильной злобы к врагам.
Но надо держаться. Он брал в руки фотографию Лиды, часами вглядывался в ее улыбку и понимал, что это и есть спасение — защищать ее, чтобы она всегда улыбалась, чтобы не знала, из какого ада он к ней пришел. Есть, есть беспечальные миры, он просто не нашел к ним путей, но Лида его поведет туда, она знает дорогу. Она заживит его раны, зашепчет, исцелит. Она изменит, переиначит его судьбу, окропленную горькими полынями.