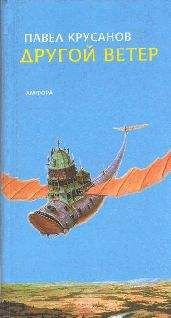Павел Крусанов - Бом-бом, или Искусство бросать жребий
— Муж спит с вами из чувства долга, а я буду совсем из другого чувства, — пообещал Андрей.
— Я подумаю, — пообещала «пионерка» и порскнула к стойке.
— Нам не дано предугадать, кто может дать нам и не дать, — пропел ей вслед Норушкин, а про себя подумал: «Вот ведь похабство какое. Пусти меня такого в метро…»
8Музыканты объявили перерыв. Стал резче гомон.
Подойдя к стойке с целью размяться и желанием очередной порции хлебного, Андрей сказал Вове:
— Поставь что-нибудь такое, что играли их отцы. Если есть, конечно. И посчитай мне сыр — пусть Люба принесёт.
Обратный путь к столу он проложил петлёй, чтобы продлить разминку и засвидетельствовать почтение.
— Привет, Норушкин, — сказал темнила Левкин, не отворяя створок, как будто внутри него кто-то умер и он боялся, что посторонний увидит труп и обвинит его в убийстве. При этом в своих текстах он описывал подсмотренный в глазок мир подробно, как имущество должника.
Норушкин привет принял.
— Братушка! Ёлы-палы… — троекратно облобызал Андрея большой и мягкий, как диван, Шагин.
Андрей ответно обнял Митю, и руки его за спиной Шагина не сошлись.
— И ты тут, бестия! Небось, гадаешь, как построить небо на земле? — стремительно подал ладонь Коровин.
— Что делать, если у меня под мышками растут перья, — сказал Андрей, — рудименты крыл ангельских.
— Все мы ангелы, — рот Коровина, словно жёваной газетой, был набит буквами алфавита, — а чуть копнёшь — лопату мыть надо.
— Дюшка, здравствуй, — не замечая тревоги на лице одной из «пионерок», приветливо махнул рукой Григорьев — хиппи второго (или, поди, уже третьего) призыва, охотник колесить стоном по глобусу. В действительности ему было нехорошо: днём он съел на ходу два беляша, которые текли у него по пальцам, и теперь в животе Григорьева рокотало/пучилось/зрело светопреставление. Впрочем, всё могло и обойтись, застыть, как неподвижно клокочущий мрамор.
Норушкин здравствовать обещал.
— Андрей, садись, — сказал Секацкий, похожий на аскета-пустынника, которого одолевают бесы. Он, кажется, не слишком дорожил дуэтом с аспиранткой.
— Сейчас, — сказал Андрей, — сигареты заберу, — и вышел из петли к своему столику.
Он и в самом деле собрался пересесть к Секацкому, но тут Тараканов поставил музыку, которая пригвоздила Норушкина к стулу.
И вправду, музыка была как гвоздь — по меньшей мере добрая стодвадцатка, — который входит в доску с пением. Это был старый концерт Ильченко, записанный на сэйшене прямо из зала. Примерно году в восьмидесятом. В нынешние времена запись, надо думать, поскоблили на цифровой машинке/технике/аппаратуре и штампанули на CD, поскольку звук был довольно чистым.
Когда-то, ещё юнцом-старшеклассником, Андрей знал песни из этого концерта наизусть. Но это было давно. Это было плохо забытое старое. И вот теперь это плохо забытое старое навалилось на него тяжело и густо, как вещий сон, который нет сил разгадать, как зима, которая сеет снег, чтобы в мире было не так, как всегда, а немного светлее, но при этом походя бьёт на лету синицу в сердце.
Мягким малорусским горлом Ильченко пел недозрелые слова, но пел отменно, и их зелёная кислинка пробирала Андрея до мозжечка:
В этих краях, на века околдованный,
Я колокольню сложу
И в небесах, словно я окольцованный,
Колокол я привяжу.
И потом мощно, звонко, раскатисто:
Бей, колокол,
Бей, колокол,
Бей, колокол,
Бей!
И ещё раз так же, но иначе — с иными голосовыми переливами/модуляциями.
«Что за чёрт? — незавершённо подумал Норушкин. — Ведь даже не на эзоповой фене свищет, а почти открытым текстом… Откуда ему знать про небеса эти подземельные? Выходит, и у него своя чёртова башня? Только, видать, не такой убойной силы, не так туго заряд забит — рыхлее, что ли, задушевнее…»
А Ильченко тем временем дразнил:
Я поднимусь в эту синь поднебесную,
Колокол трону рукой.
Всё, что не выплакать, всё, что не высказать,
Вызвонит колокол мой.
И опять по-хозяйски велел колоколу бить.
— Ну, ты звони, — хмельно буркнул под нос Андрей, — а я погожу пока…
Секацкий махал от своего столика рукой, но зря — Норушкин не видел. Он ничего вокруг не видел, потому что смотрел и думал внутрь себя.
9Повеял сквозной зефир и надул Любу. В руках она несла большую тарелку с сыром.
На тарелке было всего понемногу: сыры влажные, рассольные, сыры мягкие, с гнильцой, сыры сычужные, острые, сладкие и пикантные и даже какой-то зеленоватый сыр, нашпигованный грецкими орехами. Всё это дело было переложено порезанным на ремни болгарским перцем. Венчала натюрморт, как нос — лицо, опаловая кисточка винограда.
Андрей оторопело принял стопку одним махом и закусил ломтиком сулугуни.
И тут откуда-то сбоку появился Вова с «крышей».
10«Крышу» звали Герасим, хотя по паспорту имя Герасима было Иван, а фамилия — Тургенев. Учитывая недавнее всеобщее среднее и специфику среды, трансформация закономерная. Муму он не стал, должно быть, только в силу личного авторитета, который снискал благодаря сообразительности и знатным бойцовским качествам.
Герасим был на редкость хорошо сложен, как будто папа сделал/замесил его логарифмической линейкой. При этом он словно бы являл собой напор тьмы, ярость подземных сил, от которой по швам трещит хлипкая плёнка цивилизации, — люди такого типа невыносимы в нормальной жизни, но на войне они незаменимы.
Как часто водится, в братву Герасима кинуло из спорта — был он из того, первого ещё призыва мастеров восточного мордобоя, сэнсэи которого в своё время по Указу отчалили на зону. Будучи человеком средних лет, благополучно, без психических травм пережившим смутную пору желторотой гиперсексуальности, Герасим беспредела не уважал, потому и «крыша», где он числился в верховодах, слыла совестливой, держалась понятий и кровь (чужую) мешками не проливала, хотя совсем без крови, разумеется, не получалось. Да и формы бандитизма потихоньку менялись — теперь Герасим вполне официально входил в совет директоров какой-то сомнительной асфальтовой корпорации «Тракт», что, несомненно, придавало его образу даже некоторую респектабельность. Более того — Герасим был не чужд культуре. В прошлом он пару раз встречался на татами с профессором философии Грякаловым (оба имели чёрные пояса) и, одержав победу в первом спарринге, был бит во втором, что заставило его впредь без предубеждения относиться к идее просвещения и не держать всех, говорящих без запинки слово «деконструктивизм», поголовно за лохов и фраеров.
Ну и наконец, совладелица «Либерии» и компаньонка Вовы Тараканова, неотразимая внешне, но непоколебимая, как Гром-камень, внутри, Мила Казалис, имела счастье быть некогда предметом школьных вожделений Герасима, что оказалось достаточным поводом для совершенно исключительного положения арт-кафе «Либерия» под сенью собственной «крыши»: Герасим не брал с заведения мзду. Не брал ни в каком виде, прикрывал от наездов абсолютно бескорыстно, что в собственных глазах Герасима резко поднимало его MQ (показатель нравственного коэффициента). Поднимало настолько, что определённо выводило из отрицательной величины. Он просто здесь порою отдыхал, послушивая музычку и почитывая свежераспечатанные листочки, предложенные Милой Казалис к чашке кофе, — очередные сочинения Секацкого, где тот ловко толковал о неизбежности братвы и положительной роли бандитизма в деле становления цивилизованного рынка. (Эти, равно как и другие, статьи Секацкого Левкин тёпленькими подвешивал в сетевой журнал polit.ru, откуда Мила на забаву Герасиму их и сдёргивала.)
— Братан, свободно? — Пальцем в платиновой печатке с камушком и вензелем «ИТ» Герасим указал на пустой стул.
— Вова, — дерзко игнорируя палец, сказал Андрей, — ты знаешь, каким было последнее желание верховного правителя России Александра Васильевича Колчака?
— А что, он тоже из Норушкиных?
— Нет, Вова, он из Колчаков, — не поддался на провокацию Андрей. — Он просил, чтобы при расстреле его не ставили к стенке вместе с китайцем — палачом иркутской тюрьмы. Он просил избавить его от этого позора и расстрелять отдельно.
— И что?
— Их расстреляли вместе.
— Тогда мы присядем.
— Ты что, братан, обидеть хочешь? — натурально удивился Герасим.
— Гера, ты на него не наезжай, — сказал Тараканов. — У него знаешь, какой тейп навороченный? Один дедок Наполеону хвост накрутил, а другой — вообще герой нашего времени.
— Вова, ты проявляешь скрытые комплексы, — сказал Норушкин.