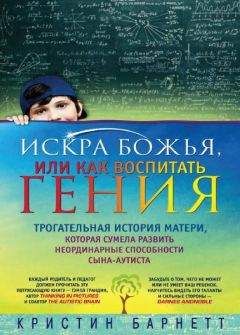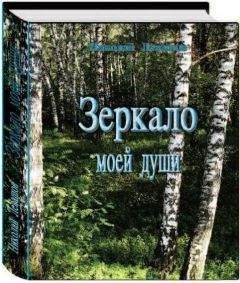Татьяна Мудрая - Лошадь и Дивногорье
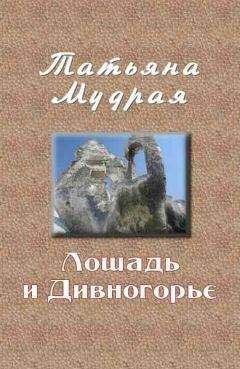
Обзор книги Татьяна Мудрая - Лошадь и Дивногорье
Татьяна Алексеевна Мудрая
Лошадь и Дивногорье
Ма Арвиль купила Дине подержанное кресло-коляску буквально через день после того, как случилась беда. Костыли — уже позже, до того девушка вполне обходилась казёнными. В хирургии и реабилитации она пробыла долго: успела набить мозоли подмышками, нарастить бицепсы и трицепсы. Впрочем, с мясом на костях у неё всегда был порядок, да и размах ключиц впечатлял. Лежание в постели съедает плоть и удручает душу, говорил им больничный священник, но как бы мимо ушей Дины попадал всем этим в её матушку.
Ещё он сетовал в присутствии обеих и больничной обслуги:
— Теперешняя молодёжь за малой доступностью наркотиков любит подсесть на адреналин. Парусные лыжи, скейтборды, имиджборды, гонки на скутерах, скаканье по крышам через улицу, ползанье по скалам без страховки, ястребиная охота и верховая езда охлупкой. Это так близко соседствует с грехом суицида, что прямо диву даёшься.
Впору было оскорбиться обеим женщинам, только ма Арвиль была хорошо православной, а для Дины эта нотация прозвучала слегка безграмотным перечнем утерянных блаженств. Даже с оттенком сочувствия. Так что священника обе простили.
Простили — прекрасно к тому же понимая, что окажись на прокатной кобыле, кроме попоны, ещё и седло с высокой передней лукой, девушке бы не просто сломало позвоночник в нескольких местах. Туша весом в добрые полтонны, шарахнувшись от проезжавшего на скорости байкера и упав вместе со всадницей на выступающую ребром бетонную плиту, вполне могла раздавить в лепёшку нежный девичий живот. Может быть, такая смерть была бы даже к лучшему: Дина теперь всё равно не мать, не жена и не работник.
И в дополнение ко всему — бесприданница. Как в пьесе Островского. На три уникальные операции ушёл не один миллион. Тогда медики восстановили спину из кровавого месива и костяной крошки, между делом зашили повреждённую селезёнку и удалили часть печени с жёлчным пузырём. Ну и соединили, как могли, кончики нервов. Возможно, проводимость с годами восстановится, успокаивали они ма Арвиль. Возможно, это утешение и эта смутная надежда стоили проданной столичной квартиры. А также маминой безработности.
Всё возможно, даже сошествие Христа с небес.
— Зачем вы уволились, Равиля Идрисовна? — спрашивали сотрудники. — С вашим образованием нынче сложно устроиться. Начальство вас ценит как организатора.
— Нужно ведь было кому-то сидеть рядом с Динушей.
— А отпуск без сохранения на что? Ни сам Сергей Михайлыч, ни вообще никто из шефов бы не отказал.
Ма Арвиль отмалчивалась. Ей чуть стыдновато казалось признаться в двух вещах. Первой из них была та, что в офис её взяли по знакомству, а не по любимой специальности. Второй — что остатки вырученных за гламурное жильё денег бухнулись в авантюру: участок чернозёма на одном из южных хуторов. Крестьянская земля с одной стороны вдавалась в заповедник, с другой — почти граничила с Украиной.
Там был и дом — судя по фоткам, наполовину сгнивший и на гнилом фундаменте, с кое-как прихваченной фаянсовыми «барашками» электрической проводкой и печью в сажевых потёках. Узкий колодец-скважина в одном конце длинной колбасы двора, туалетная будка — в другом, меловой ледник напротив дома.
— Газ нам предлагали, но я не хочу, — сказала мать, — вредно и опасно.
«С таким дырявым чердаком и щелями в полу не отравишься, — подумала Дина. — И от печки не угоришь. Сквозняки, наверное, гуляют».
Что-то в ней хладнокровно просчитывало варианты.
— Зато почва богатейшая, — продолжала ма Арвиль. — Жирней сметаны, щедрей невесты на выданье. Только и надо — поливать её хорошенько. Скважина, мне сказали, в самое засушливое лето не пересыхает. А уж красота вокруг!
— Не замечала за тобой склонности к земледелию, — иронически заметила дочка. Ей предлагали посмотреть ещё фото, сделать запросы в интернете, но не хотелось.
Они уже сидели в купе вдвоём: коляска сложена, нехитрый багаж заброшен на полку, ехать всего полсуток — это дешевле, чем провести лишнюю ночь в гостинице. И даже у сердобольных коллег.
— Жаль девочку — настоящая восточная красавица эта Динара, — исподтишка говорили в одной семье. — Жгучая. А вот прикиньте: и мать, и она сама — Соколовы. Дина-то — можно сказать, любимое русское имя. Но вот почему у мамы-башкирки такое прозвище французистое? Кто их папа-то был?
— Больше никакой джигитовки, — вторили им под другим кровом. — И без того матери сплошные огорчения.
— Да там лошадей и нет, — грустно посмеивалась ма Арвиль. — Один-единственный буланый жеребчик, и того хозяин привязал к колышку веревкой, будто козу. Ни на шаг не отходит: всё боится, что конокрады уведут.
— Как жить-то будут в такой глуши и за такие гроши? — рифмовало третье семейство. — Одна инвалидная пенсия. Только и надежды, что в провинции всё дёшево.
На станции Лиски, куда поезд прибыл ранним майским утром, им помогли выгрузиться и даже собрали «экипаж».
— Тут недалеко — километра полтора всего, — ма Арвиль натянула на брови старое кепи с длиннющим козырьком, вскинула на плечи рюкзак, положила дочери на колени платок и сумку и взялась за ручки кресла. — Дорога хорошая, грунтовая.
Только вот про жару она забыла — градусов за сорок, свет с вылинявшего до бесцветности купола отражался в меловых осыпях там, где они не поросли жухлой травой, и взлетал кверху в небо снова. В этом мерцании вставали белоснежные видения: подобные мечам шпили, купола, окружённые готическими арками, химера, вставшая на дыбы. Нужно было собрать всю волю в кулак, чтобы от них избавиться. И ещё ухватиться за сложенные вместе костыли.
— Мама, мне сейчас дурно станет. Всё плывёт в дыму, радужные пятна какие-то прыгают.
— Прости, сейчас тёмные очки дам. Мне-то вроде ничего, а ты впервые. Это как зимой на чистом снегу, правда?
Однако с «хамелеонами» видения не исчезли — наоборот, стали отчётливей. И Дина поняла.
— Ма, скажи. Это ведь не мерещится? Это в самом деле такие чудеса?
— Не чудеса, а Дивы. Большие Дивы и Малые. Так и называются. Говорят, выветрились из меловых пород. А овраг между теми и этими называется каньон, представляешь? Тоже красивый.
— Почему я не знала?
— Не хотела знать, вот и всё. Да чем доказывать — лучше один раз глянуть, верно?
Коляска катилась медленно, со скоростью прогулочного шага. Мама показывала на того или другого Дива, объясняя, дочь запоминала.
…Храмина со шпилем, про неё говорят, что не простой останец, — сложена из плит, пригнанных с точностью до волоска. Ветер уже потом поработал: мел — он ведь хрупкий, податливый. Шатрище — это всех дальше. Почти египетская островерхая пирамида, его паломники исходили вглубь и по периметру. Лик Старца. Очень похож, и правда. Многая Радуга: там три или четыре полукружья пересекаются, на утренней заре золотые, на заходе огненные, а сейчас в голубизну слегка отдают. Вон тот зверь — Конь с волнистой гривой, а чуть подальше Дракон, над ним иногда огненные шары в темноте играют.
— Храмина — вон та островерхая башенка? Еще и с лестницей?
— Ну да. Часовня Власия Севастийского, покровителя скотов и зверей. Говорят, привезли два греческих монаха вместе с Богородицей византийского письма. К самой Сицилийской Богородице в шатёр я тебя сумею подвезти, пожалуй. На той горе ступени не такие крутые. Даже и что-то вроде пандуса.
— Так всё равно кресло не затащишь, ни туда, ни оттуда. И к Святому Зверолюбу тоже.
Голос Дины звучал настолько тускло, что мать приостановилась и неожиданно сказала:
— Есть ещё одна икона Божия: небо. Она не прячется в храме, ибо всеохватна. Нет места, где не проявляется её свет, не связанный ни с небесными телами, ни с огнями земли. Всё же образ Высокого Неба — Тенгри, Хан-Тенгри, Кок-Тенгри — проявляется лишь благодаря Земле. Здесь, среди дивов, — земля белая и пестрит голубыми и золотыми тенями. Она распростерта как драгоценное блюдо и сливается краями с крышей этого мира. Оттого и прикосновение неба, в равной мере как и касание земли, здесь ощущаешь буквально всем телом.
— Мать моя, — Дина обернулась назад с непередаваемым юмором в глазах. — От кого я такое слышу! Ты ж христианка, а не язычница.
— Чего не выдумаешь ради того, чтобы тебя потешить, — устало ответила Равиля.
В конце пути зной ещё усилился, а очарование померкло. Домик на улице Луговой, куда они проникли через повисшую на одной петле калитку и дощатую дверь, внутри оказался не так плох: зарос по самую шиферную крышу диким виноградом, на синем листовом железе, которым были поверх глиняной обмазки обиты стены, кто-то нарисовал ярко-жёлтые и красные цветы. До приезда хозяек дом хорошенько подлатали изнутри и снаружи, отмыли от извёстки стены и пару хилых стульев с гнутыми спинками. Даже бросили на пол у выходящего во двор окна старенький ватный матрас с бантами в узлах простёжек. Кресло пришлось оставить наружи, приковав к хилым перильцам, сумку с рюкзаком бросили на пол. Пообедали всухомятку. Кое-как прожевав последний кусок, Ма Арвиль сказала: