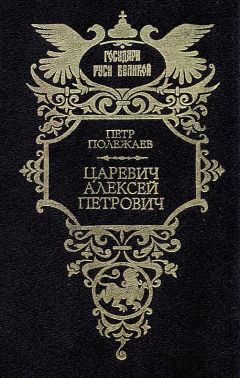Евгения Сафонова - Шёпот листьев в больничном саду

Обзор книги Евгения Сафонова - Шёпот листьев в больничном саду
Евгения Сафонова
Шёпот листьев в больничном саду
The butterfly which appears to my mind
right before I fall asleep.
The butterfly flies away tonight as usual,
leaves me alone,
who suffers from the reality of my life
and the dreamlike state
between waking and sleeping…
…иди, протянута рука.
Отчего говоришь, что тьма лишь зло?
Упади в объятия мои,
Горькой тьмою печали утоли —
Засверкает снова жизни мираж.
Вечность ждёт — ты руку протяни,
Сладкой ложью печали утоли —
До последней капли мне всё отдашь…
С благодарностью ребятам из RO-Project за подаренное вдохновение,
светлой памяти моей мамы
Когда я впервые услышала его, я приняла его голос за шёпот листьев в больничном саду.
Сад в больнице мне нравился. Нравилось гулять по гравийным дорожкам и кормить серебристых белок в вольере. Они порой напоминали меня — с такой же тоской смотрели сквозь прутья на то, что было снаружи.
Хотя, может, мне просто казалось.
Ещё нравилось сидеть на скамейке и наблюдать за прохожими за высоким больничным забором. И за другими — такими же, как я. Теми, что внутри.
Листья клёнов пёстрыми звёздами срываются с веток и падают под ноги людям.
Вот напротив меня, на точно такой же скамейке, сидит бывшая соседка по палате — миленькая девушка с томиком Ахматовой, немногим старше меня. Голова повязана голубым платочком: скрывает отсутствие светлых кудрей, которыми она когда-то так гордилась.
Вот девушка откладывает книгу и берёт телефон: звонит муж. Говорит, что задержится на работе и сегодня её не навестит. Она кивает, отсоединяется и кладёт телефон обратно в сумку.
Она знает, что он задержится не на работе.
Она продолжает листать желтоватые страницы, местами заляпанные едой, местами исчерканные карандашом; и никто — почти никто — не обращал внимания на то, что щёки её блестят от слёз.
А вот у забора девчонка лет двенадцати с рукой на перевязи собирает букет из кленовых листьев. Кружевное платьице, светлое пальтишко, на голове — два рыжих «хвостика», затейливо перевязанных атласными ленточками. Прохожие за забором улыбаются, замечая её.
И никто — почти никто — не замечал, что в букете чётное количество листьев.
А вот сижу я. Веснушчатая мордашка, лёгкая курносость, карие крапинки в папоротниковых глазах, каштановая щетинка вместо бывшей копны до талии. Девятнадцать лет, студентка Гнесинки, кафедра эстрадно-джазового пения. В академическом отпуске по состоянию здоровья. Диагноз: острый лейкоз. Дружелюбна, улыбчива, отзывчива. Всегда готова подбодрить и поддержать добрым словом — и Марину, девушку в голубом платочке, товарища по диагнозу, и Катю, девочку с кленовым букетом, жертву автомобильной катастрофы.
И никто — почти никто — не думал, что я сама уже семь месяцев как думаю о том, что на небе прохладно, хорошо и не больно.
Когда я впервые услышала его, я сидела на своей любимой лавочке, перед первым днём своей последней химиотерапии, и смотрела, как мимо больничного забора течёт пёстрый поток людской толпы. И жизни.
Здесь, за забором, жизни не было.
Здесь властвовало состояние промежутка. Балансирования на краю.
Я ждала родителей, и клёны шелестели над моей головой, когда я вдруг услышала шёпот.
— Бедная девочка…
Я оглянулась.
Рядом никого не было.
Тогда-то я и решила, что это был шёпот листьев. Созвучный моим собственным мыслям.
А потом я услышала голос Марины, окликавшей меня со своей лавочки — самый что ни на есть реальный — и шёпот вылетел у меня из головы.
— Саш…
— Да? — я поднялась с лавочки к ней.
Какое-то время мы с Мариной лежали в одной палате — до того, как нас перевели в соседние асептические блоки.
Мы не то чтобы подружились, но общались друг с другом охотнее, чем с остальными.
— Прости, что отвлекаю, — она неловко улыбнулась. Слёз на щеках не видно — зато край платка весь мокрый. — Просто поговорить с кем-то захотелось.
— Да ничего, я же всё равно просто родителей жду, — я ободряюще положила руку ей на плечо. — Ну что, последний курс завтра начнёшь, а?
— Да, — она кивнула несколько печально. — А тебе ещё три, да?
— Зато большая часть уже позади, — в моём голосе так и била жизнерадостность и вера в светлое будущее. — Как закончим обе, отпразднуем, а?
Марина не ответила: лишь посмотрела на меня как-то странно задумчиво.
— Хорошие у тебя родители, — вдруг вырвалось у неё. — Каждый день почти ездят.
— А? — я несколько удивлённо кивнула. — Ну да, они у меня такие. Заботливые.
— Ты одна у них?
— Да нет. Машка, моя старшая сестра, уже три года как замужем. Только они по работе в Питер переехали. Вот недавно сама ребёнка родила. Мама всё тоскует, что внука понянчить не может. Вот на мне и компенсирует, — я рассмеялась — почти не через силу. — Я сейчас, считай, сама почти как младенец. По крайней мере, детское питание ем с удовольствием.
Марина опустила глаза.
— Хорошо тебе, — тихо проговорила она. — Тебя дома ждут…
Потом вдруг встала и побрела куда-то по дорожке, не глядя на прохожих.
— Марин!
Она не обернулась. Только голову в плечи глубже вжала.
Я сидела и смотрела ей вслед, и болезненная жалость жгла меня изнутри. Потому что я прекрасно понимала, что она сейчас чувствует.
Я сама через это прошла.
Сколько нас таких здесь, с одинаковыми историями, где разница только в деталях?..
— Сашка! — до меня донёсся радостный крик мамы. — Почему без шапки, безобразница такая?!
Я обречённо вздохнула и поднялась навстречу очередному нагоняю.
Когда я услышала его во второй раз, я приняла его голос за сон.
Каждый курс высокодозной химии — это круг ада. Сначала тебя почти убивают, потом ты оживаешь; и как только ты возвращаешься к почти нормальной жизни, тебя снова отправляют на пытку.
У меня это было уже в пятый раз.
Острый лейкоз — это путешествие через пустыню. От оазиса до оазиса. А между ними — палящее солнце снедающей, изнуряющей, невыносимой боли.
Той ночью я лежала под капельницей, уставившись в белый, тошнотворно-стерильный потолок своей палаты, и пыталась заснуть.
Конечно, сначала я решила, что мне мерещится. Я лежала в асептическом блоке, и даже медсёстры ко мне входили исключительно в сменной одежде — только из-под антибактериальной обработки. Сейчас иммунитет у меня отсутствовал, убитый теми же препаратами, что убивали мою болезнь; и смертельной могла стать любая бактерия, даже те, что для нормального человека абсолютно безвредны.
В мою палату никак не могли проникнуть посторонние. Тем более ночью.
Он был в цветах крови и забвения. Волосы — белый пепел, кожа — первый снег, губы — лепестки бордовых роз.
Я не смогла бы сказать, стар он или молод: лицо его было лицом юноши, но с чертами куда тоньше и изысканнее моих девичьих — а тьма в глазах казалась древней, как сама вселенная.
Он стоял, глядя на меня, и улыбался.
А потом разомкнул губы — и я поняла, чей шёпот слышала в саду.
— Бедная девочка, — голос был тих и лёгок, как ветер.
Когда я моргнула, его уже не было.
Во время химий мне часто снились странные сны. Пугающе реальные. Поэтому я даже особо не удивилась: только пожала плечами и закрыла глаза.
Мне померещились крики где-то за соседней стеной — а потом, как ни странно, я сразу заснула.
Поутру медсёстры, зашедшие ко мне поменять капельницу, показались мне какими-то пришибленными. Впрочем, я не понимала, как они вообще могут быть не пришибленными, работая в таком месте. Когда меня впервые привезли в гематологическое отделение, я подумала, что теперь знаю, как приблизительно выглядит концлагерь.
Во всяком случае, его узники.
Мне привезли завтрак, и я покорно проглотила свою стерильную кашу. Вкуса я не почувствовала. Впрочем, может, его и не было.
Чуть позже пришёл мой лечащий врач, Владимир Алексеевич. Медсёстры звали его Вольдемаром, и я про себя — тоже. Врачу уже перевалило за пятьдесят, но он удивительно хорошо сохранился: пышные русые кудри, чуть тронутые сединой, улыбчивые морщинки в уголках губ, зоркий лазоревый взгляд поверх очков. Да и брюшка под халатом не видно.
Это было почти забавно, но он сам болел. И тоже лейкозом. До сих пор периодически уезжал на очередной курс лечения в Германию. А ведь если бы сам случайно не проговорился, ни за что бы не подумала.
— Ну здравствуй, Александра, — проговорил Вольдемар. — Как самочувствие?