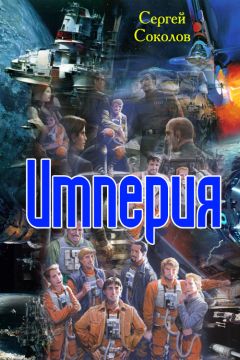Кен Като - Гнев небес
Вот она-то и воюет на галактических фронтах романа и в душе его автора. И это подлинная «война миров», столь излюбленная фантастикой с Уэллсовых времен.
III
Когда-то добрый мой приятель, отменный петербургский писатель-фантаст и ученый-востоковед Вячеслав Рыбаков примерно так объяснял мне свое решение поступить на Восточный факультет Ленинградского университета. Что там Марс, что туманность Андромеды? Вот тут, на Земле, под боком — Китай, Япония… Иные цивилизации, иные психологии, иные традиции, иные культуры, иные миры. Да такие, что далеко не всякому фантасту (если вообще какому-нибудь) придумать под силу. Сдается мне, тогда, в юности, Рыбаков и сам не понимал, насколько был прав. Впрочем, я весьма далек от мысли предлагать вашему — пусть даже в высшей степени благожелательному — вниманию культурологическую монографию. И за рамки нашего разговора слишком уж далеко это выходит, и тема по сути неисчерпаема, да и я отнюдь не профессионал-востоковед.
Приведу всего один пример, моему писательскому естеству наиболее близкий. «Гневу небес» предпослан эпиграф, традиционное японское трехстишие хокку (или, иначе, хайку) классика классика XVII века Мацуо Басё. В каноническом переводе В. Марковой оно выглядит чуть иначе:
Старый пруд.
Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине.
Правда, в обоих переводах слоговая схема хокку нарушена — в первой и третьей строках должно быть по пять слогов, а во второй семь. Но так или иначе, а нашему сознанию непросто увидеть в этой миниатюре стихотворение — настолько она сжата, емка и ассоциативна. А если добавить к этому, что восприятие стиха (а порой — даже его смысл) зависит не только от самого текста, но и того, в какой каллиграфической манере текст положен на бумагу? Что воспринимать его, необходимо не только как текст, но и как графику? Такие фокусы нашему пониманию, попросту неподвластны.
Справедливо это и по отношению к прозе. «Прозаическое произведение XI века „Повесть о Гэндзи“ („Гэндзи-моногатари“), почитающееся некоторыми первым романом в истории мировой литературы, — пишет американский японист Х. Байрон Иэрхарт, — представляет собой искусно созданную художественную хронику жизни и любовных похождений знати при императорском дворе.
В этом романе одинаково важное значение для передачи тонких любовных переживаний имели как бумага, на которой он был написан, так и аромат духов, источаемый каждой страницей. Подобные эстетические нюансы сохраняют значение и до сих пор». Не знаю, как в ваших головах, но в моей все это практически не укладывается; то есть умом я могу понять саму возможность подобного, но представить себе, но почувствовать , но проникнуться …
И посему углубляться в тончайшие материи такого рода я ни в коем случае не рискну и только позволю себе остановиться — да и то самым беглым образом — на одном сопоставлении (или — противопоставлении?).
Америку европейская мысль наделила идеалами свободы и равенства — свободный человек на свободной земле. Да, человек вечно пребывает во множестве взаимосвязей с окружающим миром — с другими людьми, с обществом, с Богом, наконец. И тем не менее, он самодостаточен. Он волен строить все эти связи так, как ему заблагорассудится (не забывая, правда, что эти люди, общество и Бог, в свою очередь, вправе относиться к нему всяк на свой манер). И хотя свобода его отнюдь не безгранична, а — в полном соответствии с максимой Спинозы — заканчивается там, где начинается свобода другого, явная расплывчатость этой границы предоставляет обширнейшее пространство для маневра.
Японцы существуют на противоположном полюсе, полюса же, как известно, могут перемещаться, но не относительно друг друга. «Быть японцем, — пишет тот же Х. Байрон Иэрхарт, — означает нечто большее, чем родиться в японской семье и усвоить японские обычаи. Это также означает стать частью системы родовых кланов. В отличие от жителей западных стран, например, американцев, обладающих повышенным чувством собственной индивидуальности, каждый японец привык рассматривать свое поведение с точки зрения принадлежности к определенной семье и прежде всего считать себя ее членом, а не отдельным индивидуумом.
Обобщенно говоря, в японском обществе существует гораздо более сильное чувство принадлежности к социальной группе, чем на Западе, будь это семья, университетский или рабочий коллектив. И это чувство является не просто абстрактной идеей, а поддерживается целым комплексом особых взаимоотношений, основанных на почтительности детей к своим родителям, уважении студентов к своему преподавателю (сохраняемом надолго после окончания курса обучения) и на товарищеском отношении к своим коллегам». Причем связи эти небывало — для нашего восприятия — тесны и налагают на каждую сторону целую систему обязательств, неисполнение которых попросту немыслимо, если вызвано причинами сугубо объективными, все равно означает неизбежную потерю лица и по сути гражданскую и психологическую смерть.
Какая из этих систем несет в себе больше блага для человека? Кто ответит на этот вопрос? Он столь же неразрешим, как горестное библейское: «Что есть Истина?» И дело даже не в том, что всякому кулику свое болото роднее и привычнее. Нам-то, обитающим меж Западом и Востоком, в массе своей равно чужды и американский гипериндивидуализм, и японский суперколлективизм, с точки зрения которого даже пресловутые российские общинность да соборность представляются чем-то запредельно разреженным и хаотическим. Хотя, если вдуматься, за японским образом жизни и мировосприятия в большей мере стоит грядущее.
Конечно, лишь в том случае, если сохранятся существующие тенденции; не снизится рождаемость, не упадет, таким образом, демографическое давление. Ведь американскую — и, шире, западную — ментальность далеко не в последнюю очередь породили пресловутые бескрайние просторы, где от свободы одного до свободы другого и впрямь дотянуться — особенно поначалу — было весьма непросто. Японское же сознание взросло на островах, общая площадь которых в двадцать пять раз меньше территории США, тогда как население уступает американскому всего лишь вдвое. А это как раз то, что ожидает человечество в будущем — ограниченность пространства, оскудение ресурсов, сверхплотность населения. Конечно, это всего лишь линейный, проективный прогноз, а я уже говорил вначале, что они всегда весьма рискованны.
Однако если существующие тенденции радикальнейшим образом не изменятся и если — как в романе Кена Като — человечество не выплеснется (что, прямо скажем, весьма сомнительно) в космические дали, то в каком-то смысле всем нам — то бишь потомкам нашим — предстоит в полной мере ояпониться. Впрочем, все это, разумеется, лишь милые сердцу всякого фантаста умозрительные спекуляции. Продолжая же разговор о двух системах, приходится признать, что всеобщего счастья и во человецех благорастворения не смогла подарить ни та, ни другая.
И потому в каждой из стран не могли не появиться люди, которых противоположная система властно влекла обещанием неизведанных благ, хотя явление это характернее для более молодой американской культуры, да и то проявилось оно лишь в последние полвека — довоенному Роберту Хайнлайну, например, в его «Шестой колонне» подобное и пригрезиться не могло.
Но сегодня уже можно говорить о явном, как и положено по законам физики, взаимопритяжении полюсов, разве что несколько — вопреки этим самым законам — асимметричном. Причем притяжение это обретает силу и остроту едва ли не сексуального влечения. По крайней мере, судя по художественной литературе, включая и только что прочитанный вами роман. И дело не только в описанной там судьбе Дюваля — Дзинана, конечно; гораздо интереснее и важнее то, что стоит за нею, то, что происходит в душе и сознании самого писателя.
IV
Возможно, в сознании — или предощущении — будущей тотальной японизации сознания, многие писатели проявили немалый интерес к подобной ульевой психологии. Один только блестящий роман Фрэнка Герберта «Улей Хёллстрома» чего стоит. А ведь подобных произведений за последнюю четверть века появились многие десятки. Причем не только в США — эту же проблему взялся, например, разрабатывать в своем последнем и, увы, незаконченном романе прекрасный петербургский писатель Александр Щербаков. Но все-таки для Кена Като она явно имеет не академический, а глубоко личный, интимный характер.
Не знаю, сознательно или подсознательно (полагаю, все-таки второе), но собственное ощущение «расщепленного корнеплода», как образно определил некогда Арнольд Цвейг, Кен Като распространил и на весь сотворенный мир. Что такое проекция на космические бездны политической карты земного шара, как не метафора все той же расщепленности бытия? Самая условная, самая игровая деталь «мироздания по Като», и в то же время едва ли не самый убедительный художественный образ романа. Возможно, потому, что за нею — боль души, пытающейся постичь, кто и что она есть.