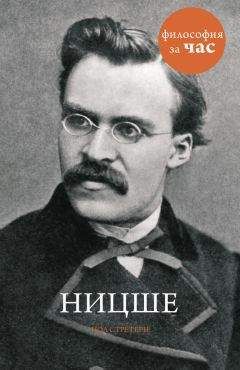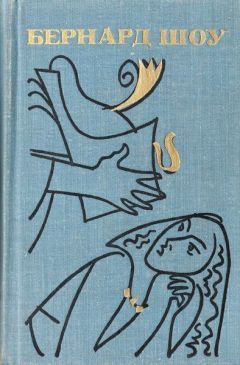Стенли Вейнбаум - Черное пламя
И вслед за этой мыслью, воспоминания о Саре медленно проникали в придуманный им мир, и казалось, что он действительно слышит печальные слова ее упреков: «Путь величия и славы ожидал тебя, Эдмонд. Теперь, когда наступает конец твой, оглянись назад, посмотри, какие руины ты оставил от того, чему предназначалось стать великим».
И ответил на упрек Эдмонд вот так:
— Я вижу оставленные после себя руины, но и нахожу в них скрытое очарование. Смягчилась суровая белизна мрамора, острые грани его единым целым стали с бытием под названием жизнь, и трещины колонн оплетают молодые побеги виноградных лоз. В громаде самого величественного здания ты не почувствуешь то, что витает в воздухе руин. Скажи, Сара, станут ли дикие голуби вить гнезда под сводами нового храма?
— Слова! — сказала в ответ Сара. — Ты прикрываешься словами, упрятал себя в теплое и мягкое, когда вокруг сверкают молнии. Ты променял разум свой на желания тела, недостойные предназначения твоего. Ты — ничтожный ловец мух!
— И тут ты права, — сказал Эдмонд и выбросил образ ее из сознания. Но потом еще долго размышлял над упреками Сары, рациональной половиной своей принимая их правоту, но в конечном счете так и не найдя достойного смысла и значения этой правоты. Сара говорила с той точки зрения, какую не мог и не хотел признавать он. Понимание — вот что могло существовать между ними, но никогда не перерасти ему в симпатии привязанностей. И, вспомнив о Ванни, улыбнулся Эдмонд. Вот где было все наоборот — море симпатий и никакого понимания.
Ванни и Сара — его физическое и духовное дополнение до единого целого. «Значит, правда, что плотские элементы любого существа гораздо выше его духовного. Значит, важнейшие элементы не расположены выше остальных. Значит, не является духовное — основополагающим».
И, исследуя эту мысль, он вновь погрузился в придуманный им мир, где смешались грезы и реальность, и пребывал там, пока не вернулась с покупками Ванни. Бросив пакеты, присела Ванни на скамейку между огнем камина и Эдмондом.
— О чем мечтаешь ты, Эдмонд?
И он рассказал ей, ибо не могли никому причинить вреда эти мысли.
— Мне кажется, что недооцениваешь ты дара этого, Эдмонд, лишь потому, что сам обладаешь им в избытке. Для меня же все остальное лишь основание, на котором покоится разум, так презираемый тобой.
И он улыбнулся ласково и мягко, как только могли позволить его тонкие губы и врожденная ирония черт лица.
— Больше я ничего не стану объяснять, — сказал он тогда.
Вспыхнуло лицо Ванни.
— О, я все понимаю! Ведь не такая же законченная дурочка! Лишь поэтому так восхваляю я дар разума! — и когда сказала так Ванни, прежний страх легкой тенью ожил в ее глазах и задумчивыми стали черты лица. — Видишь, Эдмонд, я ведь душу свою продала, чтобы понять тебя, да видно цена оказалась не слишком высокой.
Глава двадцать третья
ВЕЧЕР НА ОЛИМПЕ
Если жизненные силы Эдмонда можно было сравнить с морем в час отлива, то неслышной походкой пришедшая в город зима застала их, так беззаботно в начале пути растрачиваемых, на самой последней черте, в самой низкой точке. Он доживал последние дни в полудремотном состоянии с черно-белыми снами и лишь невероятным усилием мог заставить свои сознания-близнецы думать с прежней остротой. Теперь он копил остатки энергии и расходовал ее, как расстающийся с каждым пенни скупец, желая за каждую потраченную монетку получить в полной мере немногие отпущенные ему в оставшейся жизни наслаждения. Нет, это было уже не былое мотовство ночей экстаза, а жадное поглощение зрительных, чувственных эмоций, но и они в последнее время стали все больше походить на зыбкий, ускользающий сон. В этом состоянии он мог лишь наблюдать за блуждающим в темноте болот, дорогим сердцу огоньком знаний, но уже не отваживался преследовать его. Теперь он почти не вставал с кресла и целыми днями просиживал в нем перед черепом обезьянки, погруженный в мечты или воспоминания былого, как очень старый человек. Он — кто всю жизнь свою прожил в будущем, теперь был насильно упрятан в тесную каморку прошлого, которое становилось все длиннее, а будущее короче и туманнее.
Он более не мог скрывать свою болезнь от Ванни, но подсознательная вера в него смягчала волнение женщины. Для нее Эдмонд всегда был таким, каким хотел быть, и его истинные цели и желания всегда скрывались за пределами ее понимания. Зачем он решил так ослабить себя, было для Ванни загадкой, но не опасностью, а, значит, и не поводом для беспокойства.
Все так же приходила Сара, стояла и молча рассматривала его своими холодными глазами. Время для слов уже прошло, и теперь она лишь молча смотрела, как накатывается на Эдмонда неумолимое колесо судьбы. Иногда она приносила с собой их ребенка, и теперь, видимо что-то начинающий соображать урод поддерживал молчаливый взгляд матери своим тихим, красноречивым молчанием. Эдмонду становилось все труднее поднимать голову, но однажды он заметил рождение скорби в этих круглых, застывших глазах. И случайный взгляд, подсказавший будущее этого маленького существа, заставил вздрогнуть Эдмонда от жалости и раскаяния.
— Наверное, тебе будет лучше убить его, — сказал он как-то Саре, снова ощутив на лице своем застывший взгляд рожденного им урода. Она не ответила, посмотрела еще минуту, другую и исчезла.
Более так продолжаться не могло, и, укрепив угасающие силы алкалоидом собственного изготовления, в один из дней он позвал к себе Ванни. Эдмонд знал, что на несколько часов наркотик даст ему видимость возвращения жизненной силы, но и догадывался о цене этой быстротечной иллюзии.
— Дни мои на исходе, Ванни.
Сказал он и увидел, как она отшатнулась в страхе, как заблестели, набухли глаза слезинками в уголках. Безвольно она опустилась на стул перед его креслом и, не проронив ни слова, лишь смотрела в его лицо.
— Когда я расстанусь с тобой, помни, дорогая, что ухожу по выбранной мною самим дороге, и потому нет скорби в моем сердце.
— Не надо, Эдмонд. Нет! — шептала она. — Не покидай меня снова! Ты ведь знаешь, имей я что-нибудь еще, я отдала бы все — все, и еще больше, что бы ты ни потребовал за одно право быть с тобой! Не лишай меня этого права!
— Я не хочу, — ответил он, — это судьба. Но знай, расстаемся мы не навсегда; впереди нас ждет новая встреча и еще одна — и длиться этому вечность.
— Если так, то расставание наше будет горьким, но я смогу перенести его тяжесть.
И вспышкой откровения в памяти Эдмонда ожила оброненная в разговоре о замкнутом времени случайная фраза маленького профессора Штейна: «Как вы можете утверждать, что искривление будет равномерным? Ничто в природе не постоянно; и если так, почему время должно возвращаться в исходную точку, описав идеально правильный круг?» И пока тонкие пальцы его гладили, лаская, плечи Ванни, два разума с безнадежным отчаянием ухватились за нарождающуюся мысль, ибо в ней могла скрываться возможность бегства, маленькая трещинка на идеально гладкой поверхности этого безжалостного, сжимающего все сущее замкнутого круга!
Возможно, что в своем четвертом измерении время движется не по кругу, но по спирали, где, заканчиваясь, вращающийся виток переходит в виток другой, до той поры неподвижный. А это значит, что явления не станут повторять себя с безнадежным однообразием, а будут с каждым новым витком слегка изменяться. Возможно, будет и так, что одна спираль будет переходить в спираль следующую, а она в свою очередь в другую и так до бесконечности, выстраивая уходящую в вечность величественную постройку. Движение вперед и вместе с ним надежда — то, что Эдмонд, принимая за иллюзии, отрицал всем своим существованием, — снова родилась для него. И в ту минуту впервые познал он истинную значимость философии своей и понял, что цена, которую полагается заплатить за обладание желаемым — всем, что угодно, — оказывается воистину ничтожно мала и требует лишь легкого поворота головы, изменения угла наблюдения; и тогда вместо какой-нибудь заснеженной горной вершины увидишь ты бескрайнюю степную ширь. И когда Эдмонд понял это, то затрепетал каждой клеточкой своего тела; ибо подобно сильнодействующему наркотику стал для него ни разу в жизни не испробованный вкус надежды; и никогда за всю жизнь свою не оказывался наш герой так близко к счастью. Думал он о том, что в конце концов не руины оставляет он после себя, но величественное здание прекрасного, ибо единственный из миллионов открыл истину. И шептал в забытьи восторга его разум слова этой истины, когда-то в ужас приводящие, а теперь дышащие надеждой и вдохновением: «Все в мире этом относительно точки зрения, и только сознание наблюдателя определяет, что в этом мире истинно, а что ложно». И с этой мыслью Эдмонд повернулся к Ванни.