Владимир Михайлов - Тогда придите, и рассудим
– Мне трудно признать такую категорию, как безнадежность, – сказал Фермер. – Но когда думаю о них, порой опускаются руки и хочется предоставить все дела их течению.
– Нет, – не согласился Мастер. – Когда садовник складывает руки, в рост идут сорняки. А потом приходится их выжигать.
– Потом они сжигают себя сами, освобождая место, – поправил Фермер. – Но это не многим приятней.
– Ты хочешь сказать, что не в состоянии помешать им?
– Я – Фермер. Могу засеять поле, но не в состоянии помогать росту каждого стебелька в отдельности. Даже каждого ствола. И уж подавно не могу сделать так, чтобы из семечка яблони вырос дуб. Даже не дуб, а хотя бы яблоня другого сорта. Что могу, я делаю. Хотя я посылаю только мысли, а ты – своих людей. И при этом не одних только эмиссаров.
– Посылаю. И мне жаль их, Фермер. Им приходится нелегко. Ты знаешь задачу эмиссара: его объект – люди, а не события. И пусть он в силах влиять на человека, порой выступать от его имени, поддерживать начатое дело, – но этим его возможности, по сути, и ограничиваются. Я могу оказать непосредственную помощь лишь в критических ситуациях: вмешательство со стороны бросается в глаза и подрывает доверие. Во всех остальных случаях мои люди должны обходиться своими силами. И очень хорошо, когда они могут черпать поддержку друг в друге – чаще всего даже не понимая, что оба они из одной команды и что встреча их – не первая. Правда, опытный эмиссар чувствует это почти сразу. Но опытных у меня там, как ты знаешь, всего один. И ему придется нести тяжесть не только его собственной задачи, достаточно сложной, но и поддержать как-то другого, который, по обстоятельствам, должен будет сыграть там главную роль.
– Ты уверен в успехе, Мастер?
– Уверен? Не знаю. Я верю – это, пожалуй, точное слово.
* * *С Форамой из дому ушли шестеро, но еще двое остались. Мин Алика лежала, свернувшись клубком под одеялом, по временам крупно вздрагивая; мыслей как бы не было, но каждый раз, когда кто-то из оставшихся двигался, на нее нападал страх: их было двое, здоровенные молодчики, она – одна, защищенная лишь тонким одеялом, а слышать о таких ситуациях ей в разные времена приходилось разное. Боялась она так, что это, наверное, было заметно; во всяком случае, один из оставшихся, глянув на нее, вдруг усмехнулся и сделал пальцами козу, как маленькому ребенку, и Мин Алика послушно и поспешно улыбнулась, хотя не до смеха ей было. Однако пока что они вели себя чинно, ничего себе не позволяли, а вскоре и совсем затихли, словно задремали на табуретках по обе стороны двери: привыкли, видимо, ждать, терпения у них было намного больше нормального. Понемногу Мика осмелела: не расставаясь с одеялом, стала по очереди дотягиваться до своих вещичек и под одеялом же одеваться. Было это не очень удобно, но куда безопасней: самое страшное – когда тебя видят и ты становишься вдруг для них конкретной и досягаемой. Она ворочалась под одеялом, но они только мельком покосились на нее: ощущали, видно, что никакого подвоха с ее стороны не будет, а может быть, и беглых взглядов было им достаточно, чтобы понять, что она там под одеялом делает и чего не делает.
Так Мика вползла в домашние брюки – в них она чувствовала себя совсем уверенно – и тогда уже встала; комнатные босоножки аккуратно стояли подле, как она сама вчера их поставила. Только тогда один из сидевших встал и шагнул к ней; Мика сжалась, готовая кричать и отбиваться, но тот в двух шагах выжидательно остановился. Она поняла и, не убирая постели, ушла в душевую. Противно было, что чужой начнет сейчас копаться в постели, которая теперь была уже не просто местом, где спят, но – соучастником и свидетелем, молчаливым другом, с которым можно было без слов вспоминать и переживать бывшее; да, противно – но Мин Алика понимала, что таким было дело этих людей, которое и им самим, может быть, не Бог весть как нравилось, но они его делали, у каждого из них были на то, наверное, свои причины, и мешать им так или иначе было бы бесполезно. Когда она, намеренно не спешившая, вернулась в комнату, вещий как раз заканчивал водить над постелью маленькой черной коробочкой, едва слышно жужжавшей; вот он выключил приборчик, сунул его в карман, вернулся к своей табуретке и снова замер, как ненастоящий. Алика включила плитку, поставила воду для кофе, стала собирать небогатый завтрак. Минутку поколебалась: предложить им или не стоит? Тут возможны были две линии поведения: или поза человека обиженного, никакой вины за собой не чувствовавшего и потому относящегося ко вторгнувшимся с подчеркнутой холодностью: вы, мол, мне не нравитесь и скрывать этого не хочу, потому что за одно это вы мне ничего не сделаете, а что подумаете – мне безразлично; вторая линия предусматривала поведение человека своего, все понимающего и даже сочувствующего, и опять-таки совершенно безгрешного: что поделать, ребята, я понимаю, что вам и самим не Бог весть как нравится сидеть здесь, бывает работа и повеселее, но что делать, служба такая, я тут ни в чем не виновата и ничем помочь не могу, терпите, я вам сочувствую… В первом случае приглашать их к столу не надо было, во втором – надо. Мин Алика решила не приглашать, тем более что, с их точки зрения, ей и следовало быть злой: выдернули мужика из постели, не дали еще побалдеть, – да и какие такие ресурсы у девятой величины, чтобы так вдруг, не готовясь специально, угощать кого попало? Им не понять было, конечно, что хотя она ощущала и обиду, и боль, однако после всего, совершившегося ночью, такое обилие добра ощутила в себе, что и на них хватило бы. И все же она их не пригласила, потому что если начнешь показывать себя своим человеком и сочувствовать, то кто может сказать, какого сочувствия им еще захочется: жалеть, так уж до конца; а если бы она сама не поняла или не решилась, то им могла прийти и такая мысль в голову, что надо помочь доброй девушке понять, надо растолковать на пальцах… Мин Алика чуть не улыбнулась, на миг ощутив себя тем, кем была на самом деле, и представив – воображение у нее было живое, – каким боком обернулась бы для них подобная попытка; но улыбаться сейчас было совершенно ни к чему, и внешне она осталась такой же испуганно-серьезной, какой выглядела с самого пробуждения.
Щелкнул тостер, одновременно шапкой поднялся кофе – черный, густой, совсем как настоящий – для тех, кто никогда настоящего не пробовал. Те двое, наверное, пили – они лишь повели носом, и уголки рта показали у них не то чтобы презрение, но четко выразили мысль: каждому – свое. Мин Алике пришлось самой задвинуть ложе в стену – Опекун, видимо, был выключен гостями на время их пребывания здесь: лишний контроль ни к чему, да и – не баре, приберетесь и сами. Перед тем, как сесть к столу, она включила приемничек и даже не глядя почувствовала, как напряглись те двое. Но коробочка была прочно настроена на местную программу, шла музыка пополам с торговой рекламой, и все это каждые пять минут прерывалось отсчетом времени, чтобы никто не прозевал свою минуту выхода, свою кабину. Что-то сегодня было, видимо, не в порядке в атмосфере – или с городскими помехами, и музыка порой перемежалась тресками и шорохами; но так бывало нередко, и двое, расслабившись, вернулись в привычный режим ожидания. Позавтракав, Алика сунула посуду в мойку, а сама стала быстро наводить марафет для выхода. Это была как бы проба: ей могли, усмехнувшись, сказать, что не трудись, мол, зря, выпускать тебя не приказано, если мажешься, чтобы нам нравиться, – тогда, конечно, пожалуйста… Те ничего не сказали, не покосились даже. Щелкнув, распахнулась дверца кабины; створки еще только начали раздвигаться, а оба беззвучно оказались уже возле нее с мускулами, натянутыми, как струны, казалось, чуть звенящими даже. Но кабинка была пуста, она пришла за Аликой. Женщина натянула плащик; тот, с черной коробочкой, вышел из кабины. Алика взяла сумочку, постояла секунду, нерешительно помахивая ею; но на нее по-прежнему не смотрели, видимо, в дамском багаже успели разобраться заранее. Тогда она вошла в кабинку; пока створки сходились, успела заметить, как губы второго сидящего шевельнулись – в углу рта у него была приклеена таблетка микрофона. Значит, незримо надзирать все-таки будут.
Теперь времени у нее было – целое богатство: полных две минуты, пока кабина не минует внутреннюю сеть и не окажется на магистрали. Сработала инерция поведения, все продолжалось, как и должно было: мгновенное расслабление, приступ настоящего страха, с дрожью рук, с нахлынувшим отчаянием… Внутренне Мин Алика улыбнулась этой точности игры, в которой больше не было никакой нужды. Теперь надо было обезопаситься. Она закрыла глаза, мысленно прислушиваясь ко всему, что, явно или неявно, звучало в кабине, потом безошибочно подняла руку к воротничку, под ним нащупала тоненькую булавку, вколотую ими, наверное, пока она еще лежала. Булавку Мин Алика воткнула в сиденье внизу. Теперь пусть сигналит, пока не иссякнет ресурс.
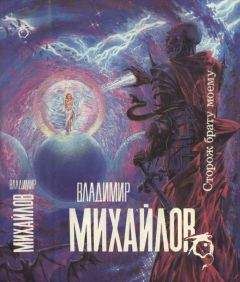
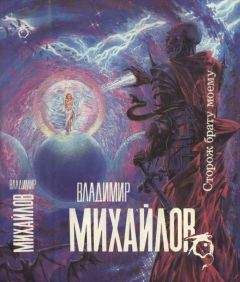
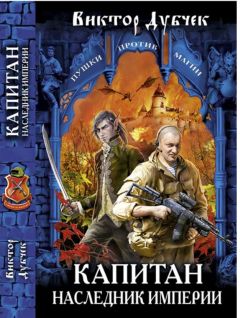

![Сим Никин - Обреченный взвод[СИ]](/uploads/posts/books/55591/55591.jpg)