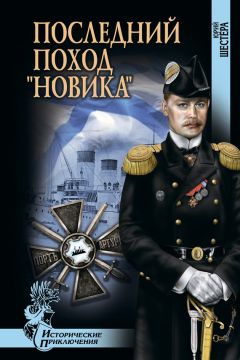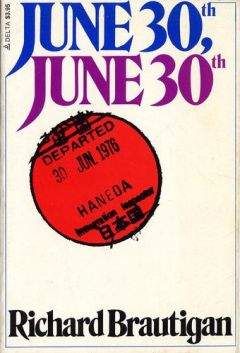Александр Зорич - Без пощады
На второй картинке я, вполне узнаваемый я, держу под прицелом вражеского офицера женского пола (видимо, Риши).
Риши в исполнении лейтенанта Покраса, конечно, на себя была нисколько не похожа – невысокая, быковидная, с черными широкими бровями, сросшимися в одну сплошную мохнатую ленту, непригожая и хмурая, в общем – само воплощение всего отталкивающего, что может быть в конкордианских демах. Но я был готов простить Покрасу эту художественную вольность. Откуда ему знать, что женщины-офицеры Конкордии бывают хрупкими, чувствительными и ранимыми? Да и нужно ли ему знать такие вещи, ведь этих женщин, как и мужчин, ему еще, возможно, придется убивать?
Материал Мухарева – о герое Пушкине – был написан по мотивам моих вечерних рассказов. Стиль изложения слегка прихрамывал – даже мой полуграмотный кадетский глаз легко находил ошибки. Взять хотя бы последние фразы репортажа: «Догорало пламя, в дверном проеме показались два штурмовых скафандра, это были клонские офицеры Даш и Марабхен». Но кому было дело до этого стиля на планете Глагол? Правильно, никому.
Ходеманн, Ревенко, Гладкий и еще кое-кто из наших эту историю уже слышали. Но остальные-то нет! В общем, я сразу приосанился. Приятно, черт возьми, стать героем литературы!
Имелись в нашей газете и злободневные стихи.
Стихи были вписаны в комиксовый бабль-гам, заостренный кончик которого упирался в губы молодцеватого парня в пилотке набекрень. Из-под пилотки на лоб героя спускался кудрявый чуб. В его правой руке дымила сигарета без фильтра. Вид у парня был, как и положено острословам, лихой и придурковатый. Озорно глядя на зрителя, парень как бы произносил:
Уверен генерал хосровский,
Что здесь ашвантом стану я.
Но сам я выучки московской —
Не верю в сказки ниюя!
И до меня, как до жирафа,
Доходят мудрости слова.
Пусть лучше стану я собакой,
Чтоб мне молилися. Ав-ав!
Левая рука парня, в чертах лица которого можно было заметить сходство с самим лейтенантом Покрасом (видимо, несостоявшегося ашванта он рисовал с себя, стоя возле зеркала у входа в барак), была свернута в наглую фигу. Эту самую фигу он нам и показывал.
Впрочем, мы-то знали, что показывает он фигу вовсе не нам! А совсем-совсем другим людям – вроде хосровских генералов! Вот, дескать, господа хорошие, наш ответ на вашу программу нравственного просвещения! Просветились – мама, не горюй!
Парень в пилотке оккупировал центр стенгазеты – видимо, Покрас и Мухарев справедливо полагали стишок «ударным» номером. И не зря!
Как только текст был прочитан, грянул хохот. Да такой, что в бараке задребезжали стекла.
Про собаку – почитание которой было обязательным в религии Клона и рассуждениями о коей нам чуть ли не каждый день проедал плеши майор-воспитатель Кирдэр – вышло особенно смешно. Мы долго не могли угомониться.
– С сегодняшнего дня называйте меня Собакой Ав-Ав! – перегибаясь пополам от хохота, простонал Ревенко.
– А меня аш-ав-антом, – хихикнул Тихомиров.
– Гут! Гут! Дер абзац! – надрывался Ходеманн. Его разговорный русский был далек от эталонов, преподанных нам Кушниром и Баратынским, но, чтобы разбирать такие вирши, языковых познаний Ходеманна вполне хватало.
– Крепко сказано, м-мать! – гоготал Меркулов. – Надо будет переписать!
– Вот спросит меня завтра Кирдэр, почем фунт хфрастров на хосровском рынке или там, к примеру, как понимать такую-то белиберду из «Ясны», – вторил Меркулову Лева-Осназ, – а я ему в ответ скажу, что «до меня, как до жирафа, доходят мудрости слова». Не сердитесь, ашвант Кирдэр, классик так сказал…
– …великий русский поэт Мухарев!
– Га-га-га! – откликался барак.
Но самый оригинальный комментарий выдал лейтенант медицинской службы Айзек Хиггинс, единственный негр в нашем нетесном кругу. В российской армии он служил по контракту как специалист в редкой области – Хиггинс занимался конкордианскими отравляющими веществами замедленного действия. Хиггинс попал в плен в первом же бою, с русским у него тоже были «несколько пробльем»…
– Я фсье пониль, – серьезно сказал Айзек. – Не пониль один толька выраженье.
– ???
– Что такой «сказькини юя»? Что такое юя, ми хорошо знать. А кто есть такой товарищ Сказькин?
Но не только шуточки с прибауточками украшали нашу стенгазету. Про некролог Костадину Злочеву Мухарев с Покрасом тоже не забыли – он был помещен в уже готовую газету. Даже невооруженный глаз замечал следы торопливых исправлений, которые были вынуждены вносить ребята ради того, чтобы почтить память погибшего товарища.
И портрет Кости в черной рамке там тоже был.
Его Покрас рисовал по памяти. И, откровенно говоря, портрет многим грешил против истины. Не угадал Покрас ни с формой скул, ни с прической, ни с изгибом бровей. Оно и понятно, ведь в друзьях Покрас и Злочев не ходили, сталкивались нечасто, да и фотографий Злочева у Покраса не было – откуда? И все же главное Покрас передать смог: губы у Злочева на портрете были упрямо сомкнуты – точь-в-точь так делал Костя, когда над чем-то крепко задумывался. И взгляд на портрете был таким же, как у Кости в жизни, – цепким, ироничным.
Память Костадина Злочева мы почтили минутой молчания.
А потом пошли расспросы.
Покрас с Мухаревым рассказывали о маленьких радостях и больших трудностях, связанных с воплощением идеи стенгазеты в жизнь.
Точнее, рассказывал в основном речистый Мухарев, а Покрас – щекастый тихоня с одутловатым лицом, окончивший Одесскую Артиллерийскую Академию не по призванию, а по настоянию волевого папы-адмирала, – по большей части смущенно отмалчивался.
Раньше я вообще не обращал внимания на Покраса. Он представлялся мне тоскливым занудой из числа тех, кто в жизни интересуется по-настоящему лишь двумя вещами: питанием и сном.
На занятиях Покрас блеял что-то невнятное, позоря перед майором-воспитателем честь российского мундира. В столовой вечно брал себе двойные порции. Анекдотов и вовсе не знал, о военно-политической обстановке не высказывался, в свободное время предпочитал рисовать всякую ерунду простым карандашом – местных «стрекоз», пейзажи с дахмой, волейболистов («Нет бы женщину нарисовать», – в сердцах пенял ему Ревенко).
И специальность у Покраса была неромантичная – не комендор и не командир башни, а оператор элеватора. Какого такого элеватора? Снарядного.
В общем, так себе товарищ по несчастью. Поэтому когда Лева-Осназ, исподтишка указывая в сутулую спину ковыляющего в уборную Вениамина – так звали Покраса, – злым шепотком сообщал мне «вот из-за таких тюфяков войну и просераем», я не возражал. То есть правдолюб во мне знал: если мы и проигрываем войну, то вовсе не по вине вялых офицеров, а из-за стратегической внезапности конкордианского нападения. Но кому охота спорить на больные темы?
Однако после газеты я изменил свое мнение о лейтенанте Покрасе. Так иногда случается, когда разгадываешь кроссворд. Вдруг всплывает царь-слово, какая-нибудь идущая через всю крестословицу «урбанизация» или «иридодиагностика», которая сразу вскрывает все твои промахи и проясняет картину.
Таким ключевым словом в моем случае и был художественный талант Покраса, проявившийся в его рисунках. Мне лично теперь было ясно: Вениамин вовсе не тупой тюфяк. Не трус и не зануда. Он просто художник. Человек из другого мира. Столь же чуждого нашему – миру военных, – как великий космос балета или таинственные мозаичные лабиринты ученых-византологов.
Разве можно требовать от окуня, чтобы он скакал, как заяц? Можно, но глупо.
Точно так же глупо требовать от Покраса знания сальных анекдотов и виртуозного владения приемами рукопашного боя.
Выходило, что жизнь Вени Покраса – о которой он впоследствии довольно много мне рассказывал – сплошная череда печальных недоразумений. И Академия – недоразумение. И элеватор его – недоразумение. И плен – тоже в общем-то недоразумение…
Может быть, когда война окончится, у Покраса еще будет шанс все эти недоразумения уразуметь и исправить? Пойти учиться на живописца или, допустим, на графика?
А вот за фигурой лейтенанта Мухарева никаких жизненных драм или недоразумений не маячило.
Балагур, патриот и виршеплет, он каждый вечер проклинал клонов за то, что те не обеспечили лагерь музыкальными инструментами. В частности – гитарами.
«Уж я бы вам сыграл, соколики! И цыганочку, и латину, и частушки! И свои песни исполнить охота. А так…» – досадливо ударяя кулаком по колену, заявлял Мухарев.
Барак вежливо поддакивал – дескать, не хватает нам гитар, еще как не хватает. Но это на словах. На деле же многие – и в том числе я – благодарили клонов за проявленную нерадивость. Хорошо, если Мухарев играет на гитаре так же славно, как о том рассказывает. А если нет?
В отличие от Покраса, который лелеял свой талант в давящей тишине барачных вечеров, Мухарев не «шифровался». Он был самым настоящим графоманом, живущим по принципу «ни дня без строчки, ни строчки без декламации».