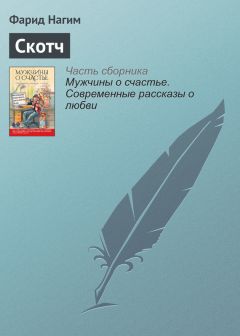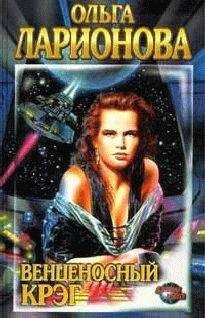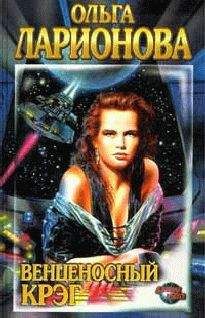Ольга Ларионова - Чакра Кентавра (трилогия)
— Скоро ли? — подал голос Харр, удивленный настойчивым молчанием своей спутницы.
— Не очень, господин мой Гарпогар. Вот хлебные делянки минуем…
Хлебные делянки оказались полянами, усеянными короткими трубчатыми пеньками; на Лилевой дороге, говорят, тоже встречались такие деревца, что срубишь — а в середине мякоть желтоватая, она как высохнет, так и пригодна в пищу, хоть вареная, хоть молотая в муку. Но своими глазами он видел это впервые, и ему снова стало хорошо, потому что он шел по тропе, доселе ему неведомой, и встречал если и не чудеса и диковины, то во всяком случае то, чего не ожидал, будь то лесинка в роще или былинка в поле. И спутница шла молча, придерживая на поворотах золотистую юбочку–разлетайку. После делянок лес пошел богатый, широколиственный, наполненный таким ветряным гулом, словно над верхушками проносился нечувствительный внизу ураган. Но, приглядевшись, Харр понял, что это шлепали друг о друга листья, толстые, как пухлые ладошки, и их шум совсем не мешал птицам, сливавшим свой щебет с переливчатыми руладами каких‑то мелодичных трещоток, лишь отдаленно напоминающих слабосильных степных цикад его родимой Тихри.
— А орехи тут имеются? — снова спросил Харр, для того чтобы прервать непонятное молчание Мади.
Она вскинула смуглую руку и, не оборачиваясь, указала куда‑то вверх. Он даже голову не стал задирать — поверил.
И снова расступилась перед ними поляна, вся устланная широкими, как у водяной лилии, листьями.
— Режь под корешок, господин, — сказала Мади, — и выбирай покрупнее.
Листья росли прямо из земли тугими пучками; Харр ухватывал черепки одной рукой, другой подрезал под корень и кидал в сетку. У Мади ни ножа, ни кинжала, естественно, не имелось, и он кивнул ей — отдохни, мол, в тенечке, я и сам управлюсь. Управился в два счета, подошел, волоча за собой сетку, и опустился рядом, прислонившись спиной к ноздреватой упругой коре громадного краснолиственного орешника — во всяком случае, кто‑то вверху, невидимый, звучно щелкал клювом и сыпал вниз скорлупу.
— Хочешь, слазаю за орехами? — предложил он.
Мади молча покачала головой.
— Да что с тобой? Язычок от жары распух или ты только при Махиде болтать горазда?
Она подтянула коленки к груди и охватила их руками. И до чего ж красивые руки, строфион меня залягай!..
— Когда я спрашиваю тебя, господин мой, ты досадуешь.
— Да потому и досадую, что все про одно да про одно. Ну спроси ты меня про золото голубое, про анделисов пестрокрылых, про чернавок обреченных… Я же до вечера тебя тешить буду!
— То не надобно мне, господин.
— Ну да, про бога единого тебе только и занятно. Точно ты уже старуха плешивая да тощегрудая. Не пойму только, чем тебе твой‑то не пришелся? Корми себе птах лесных, с птенцами их тешкайся… Что тебе не ладно?
— То не ладно, что чужие это птенцы, а своего, единственного, мне у моего бога не вымолить…
Харр не сумел удержать глумливый смешок:
— Неужто не просветила тебя подружка твоя шалавая, что на сей предмет не бог надобен, а… гм…
Она вдруг упруго поднялась и замерла перед ним, вытянувшись в струнку.
— Господин мой Гарпогар, — зазвенел ее напряженный — вот–вот оборвется — голосок. — Я прошу тебя: сделай так, чтобы у меня родился мой маленький!
Он от изумления присвистнул так, что птицы окрест затихли, а сверху перестала сыпаться ореховая скорлупка:
— Тю! Дура–девка — сейчас надумала?
— Нет.
— А когда же?
— Когда ты мне ожерелье свое надел. И не сама надумала — пирль мне прощебетала.
— В голове твоей дурной пирлюхи завелись, вот они и нашебуршали! Лихолетец я тебе, что ли? Придет твоя пора, девка ты пригожая, и будет все чин–чинарем, найдешь себе по сердцу…
— Не найду, поздно будет, — голосок ее потерял прежнюю напряженность, и в нем задрожали дождевые капли. — Шелуда отвозил рокотан в Межозерный стан, а там мудродейка живет, что гадает по рожкам горбаней черномастных. И предсказала она, что жить еще Иоффу тридцать лет без одного года. А тогда я уже перестарком буду, никто меня не возьмет. И младенчики у таких вековух только мертвыми рождаются…
— Ну–ну, — оборвал он ее, чувствуя, что любвеобильная его душа совсем не к месту начинает покрываться горьковатыми росинками жалости. — Нашла кому верить — ворожейке корыстной! Твой дед от силы год проскрипит, а там и дуба врежет, это как пить дать. Видал я его на холме. Так что будешь ты первой невестой на все Зелогривье — и богата, и краса писаная. Что еще?
— Нет, господин мой. В роду у Иоффа все долголетки, а богатство его Шелуда унаследует. Потому и прошу у тебя…
Его даже пот холодный прошиб — сколько баб за свой век поимел, и ни разу конфуза не случалось. Но чтоб вот так, по заказу…
— Да едрен–строфион! — не выдержал Харр, у которого где‑то внутри беззвучно покачивались чашечки весов: на левой, что ближе к сердцу, лежала жалость, на правой — несовместимость самого сладкого, что ни есть на человечьем веку, с расчетливой, хоть и бескорыстной сделкой. — Да ежели тебе так уж невтерпеж, заводи себе дитятю от первого встречного–поперечного; дед у тебя богатый, где внучку кормит, там и на правнучка достанет.
— Вот ты и встретился мне, господин. Только… Разве ты не знал, что Иофф мне не дед? Он мой муж.
Харр так и подскочил, оттолкнувшись поджарой задницей от усыпанной сухими листьями земли. Левая чашка весов круто пошла вниз.
— Да не будь он старый хрыч, что от ветру качается, — я б его собственной рукой пришиб! Девчонку несмышленую под боком держать — ни себе, ни другим!
— Не надо пришибать, господин мой Гарпогар, мой муж меня хорошо кормит, он и маленького моего выпестует. Только б родился!
— А я б на твоем месте не был так уверен! Знаю я пердунов этих замшелых, что до малолеток охочи: у них вместо совести шиш ядреный, крапивой утыканный!
— Напрасно ты так, господин мой, Иоффа лаешь, его не ведая. Он один на все Многоступенье рокотаны ладит, а чтоб они сладкозвучны были, он красотой должен быть окружен, куда глаз ни положит. У нас и утварь вся в доме изукрашенная, и цветы по стенам небывалые…
— И тебя, значит, выбрали, как миску расписную… — снова капнуло на левую чашку весов.
— Да, господин, — сказала она простодушно, — амант наш лесовой по всем станам искал, вот и выбрал меня. А сколько лет мне было — это Иоффу без разницы. Он ведь на меня только глядит, прищурясь.
Вот и Харр поглядел и невольно прищурился: стояла она как раз супротив солнца, и реденькая ее юбчонка, и накидочка наплечная — все это просвечивало насквозь, четко обозначив силуэт ее юного тела, пряменького, как щепочка. После роскошной Махиды такую обнять — что после доброго вина сухим кузнечиком закусить.
Эстетические принципы разборчивого менестреля весомо легли па правую чашу весов, и она угрожающе потянулась книзу.
— Все равно чужую жену совращать негоже, грех это! — не своим голосом возгласил отпетый бабник, сам ужасаясь той неслыханной ереси, которую выговаривал его язык, — надо было заглушить последний писк желторотой жалости.
Она переступила с ноги на ногу, пошевелила пальцами, словно пересчитывая их, и прошептала:
— Я заплачу тебе, господин мой…
Его словно кипящим маслом ошпарило — он вскочил и, схватив ее за узенькие плечики, встряхнул так, словно хотел вытрясти из нее саму память о подобном паскудстве:
— Никогда! Слышишь — никогда и ни единому мужику не смей предлагать такого! Да я сейчас…
И запнулся: а в самом деле — что сейчас?
Он глядел в ее запрокинутое, помертвелое от страха лицо, задыхаясь от бешенства, и в такт его дыханию хрустальный колокольчик на его ожерелье, одурело метавшийся между ее остренькими птичьими ключицами и курчавой звериной шерстью, покрывавшей его грудь, на каждом вдохе подпрыгивал и, звеня, царапал ее подбородок, а на каждом выдохе неизменно ложился в смуглую ямочку у основания шеи…
— Господин мой, — прошептала она, на какой‑то миг раньше него понимая, что обратного пути уже нет, — а это не очень больно?..
И кобелиное его естество, всей мощью громыхнув по левой чашке весов, пригвоздило ее к земле.
Шаги унеслись и затихли так стремительно, что он даже не уловил, в какую сторону. Потом сообразил: да к ручью, разумеется, юбчонку замывать. Охо–хо, ведь чуял же — ни ей радости, ни себе спасибо. А во рту точно земляничина неспелая — дух остался, а сладости никакой. Он поднялся и принялся соображать, в какой же стороне ручей — за тучными кронами деревьев, чьи листья уже начинали по–осеннему багроветь, Успенной горы видно не было. Он пошел наугад, забирая влево и надеясь напасть на тропу. Было ему как‑то тягомотно, и недовольство собой толкало найти кого‑то другого, виноватого в непоправимо приключившемся. Виноватый отыскался сам собой — ну конечно же, лесовой амант, запродавший девочку в вековечную кабалу и, естественно, не даром — с каждого рокотала, проданного на сторону, небось половину имел. Харр твердо решил, что рано или поздно повстречает его на узкой дорожке. А уж там — держись, хряк лесовой.