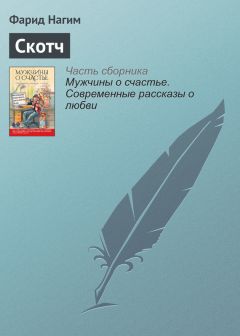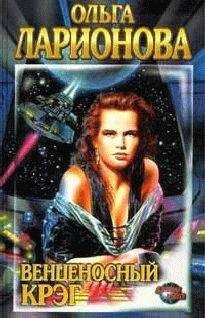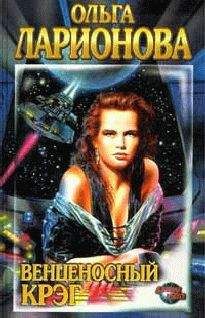Ольга Ларионова - Чакра Кентавра (трилогия)
— С какой это такой радости я перед каждым встречным посеред ночи портки спускать должен? — пробурчал он наконец.
— Так у вас что, клейма на заднице ставят? — Харр с трудом удержался, чтобы не фыркнуть и вконец не разобидеть старого вояку.
— А то! И кольчужкой прикрыто, и в бою не под ударом. И притом, когда не видишь, то забываешь быстрее…
— Сидеть‑то не мешает? — не удержался Харр.
— Оно повыше того. Так что ежели и помру где‑нибудь в караванном дозоре — враз установят, что был я из Зелогривья.
— По знаку?
— По цвету.
— Постой, постой, мне ж говорили, что нельзя на живое тело зелепище класть — прорастет?
— А то! Потому, прежде чем клеймо рисовать, это место слизью гада–стрекишника мертвят. Так‑то. Не–ет, был бы у меня сын, ни в жисть не отдал бы его в стражи. Живешь — вроде бы и сыт, и под крышей; только жизнь‑то быстро пролетает! А как немощь одолеет, даст амаит горстку зеленушек на обзаведение, и вали со двора. С дружками попрощаться — половина долой, тут не то что хибары — деревца одинокого не купишь, чтоб повеситься. И помолиться больше некому…
Он покачал головой, отмахиваясь от нахлынувших на него горестных мыслей, глянул на посветлевшее небо и, достав из‑за пазухи оселок, принялся вострить неуклюжий свой меч.
— Молиться всегда можно, — ханжеским тоном заметил Харр, только чтобы как‑то утешить старика.
— Не скажи. Бог у меня солдатский, простой; да и сам посуди, велик ли выбор у нашего брата? Пока я в стражах, он мой меч блюдет — стало быть, и жизнь мою охраняет. А как отдам я меч свой обратно аманту, на что мне мой бог?
— Постой‑ка, что‑то я не пойму, о чем речь.
— Да вот он мой бог, в руках держу — Оселок–Направник. Не, плохого о нем ничего не скажешь, для служивого человека он в самый раз, у нас многие его выбирают… Только вот уж здоровья у него не попросишь, и ни девки сговорчивой, ни достатку, к старости припасенного… Эх, нет такого бога, чтоб был на все про все!
Харр с изумлением поглядел на своего собеседника — ишь ты, сам додумался до единого бога! Вот только край неба уже совсем зазеленел, скоро и солнышко выкатится травяной оладьей. Наслушался он сегодня вдосталь, а рассказывать про тихрианские обычаи — вопросов не оберешься. Хотя и не грех бы просветить старого служаку про то, какому такому единому богу поклоняться, кого чтить с рождения и до смертного часа.
Пусть своим умом доходит.
— Будет, — хлопнул он себя по колену. — Отсидели мы свой дозор.
— А и отсидели, — без особого энтузиазма отозвался Дяхон.
Продравши глаза пополудни, Харр ощутил себя в скверном расположении духа. Вроде и чужой ему Дяхон, а все‑таки жаль. Делиться дарами амантовыми ему, разумеется, и в голову не приходило (одна Махидушка сколько выклянчит!), но хотя бы дать добрый совет… С другой стороны, давно положил он себе за правило в законы–порядки чужих дорог не вмешиваться, а поскольку все дороги на белом свете были ему, по правде говоря, чужими, то и странствовал он по ним, не оставляя ни малейших следов в умах встречавшихся ему на пути людей. И вот только здесь его что‑то потянуло на мудреные речи: или староват стал, или не к месту пришлась на его стезе Мади–разумница.
На пороге зашелестело — ох, накликал. Явилась. Дом ей тут родной, что ли?
— Ты не занедужил, господин мой Гарпогар? — а голосок трепетный, будто и впрямь ее чужое здоровье заботит.
— Да чую, что не с той ноги встану… — сел на постели, почесал подмышки. — Ночь тоскливая выдалась.
— В околье нашем троих, говорят, поймали, но это с прошлой ночи, в кустах отсиживались. А то тихо, как в мирные дни. Или замерз ты без теплого плаща? В степях твоих отеческих, говорят, много теплее…
Вот привязалась! И про неоглядные просторы тихрианские напрасно напомнила, еще тоскливее на душе стало.
— А, страж тут один весь дозор о своей нищей старости прогоревал. И впрямь жалко старинушку, одиноко и голодно жизнь кончит.
— Ага, жалей его, жалей, — живо откликнулась со двора Махида, — небось про грошики убогие тебе толковал, про то, что крыши над головой не присудится… Так?
— А что, не так?
Махида злобно хохотнула:
— А про заначку потаенную, что у каждого стража где‑нибудь под стеной закопана, он тебе не говорил? А сколько он за свою службу из дома амантова накрал, не рассказывал? Ты поинтересуйся, утешение ты мое утрешнее, пропадун ночной, кто богаче — я или он?
— Да что ему красть‑то?
Махида бросила стряпню, стала на пороге, уперев руки в крутые бока:
— Как в дозор по нашему околью их нарядят, каждый обязательно что‑нибудь у аманта стянет — кто чашку, кто полотенишко. Так. В хибарах на жратву поменяют, самих‑то сытно кормят, чтоб силу не потеряли, а вот телесов, особливо ошейных, — тех едва–едва. Значит, несут добытое обратно телесам, что с зеленищем возятся, те им в лохани зверевой со дна зеленище соскребут, в посудину поганую накладут — и водицы сверху, так долго можно сохранять. А это уже на живую деньгу продают, в загашник свой. А кто иной и за будущую хибару платит, ему деревца в кружок посадят и ростят–лелеют, ветви в шатер связывают. Через десять–пятнадцать зим глядишь — только корой оплести, и хоть трех жен приводи. А ты говоришь — крыша над головой…
Харр спустил ноги с постели, махнул Мади, чтоб отвернулась, и, угрюмо посапывая, принялся натягивать штаны и дневной кафтан из рядна, что в самый раз по тутошней влажной жаре.
— На что ты обиделся, господин мой Гарпогар? — Мади сидела на корточках спиной к нему и все‑таки почувствовала, что на душе у него хреново.
— Да не обида это! Вам, девкам, не понять, как это бывает, когда почуешь чем‑то, локтем, что ли: живой рядом человек, брат — не брат, но свой, и беды все его понятны, и душа толкает помочь… А потом послушаешь про него — ворюга продувной, да еще и слезу из тебя, дурака, давил… Мерзко. Голодал — бывало, а чужим всегда брезговал. Грех это, и не любо солнцу ясному на такое глядеть.
— Дай мои кружала, Махида, — еле слышный шепот, а точно шило в зад.
Опять за свои каракули примется, умница–заумница, будто в первый раз слышит, что воровать негоже. Надоело. Он рывком подхватил перевязь с мечом, кивнул Махиде:
— У аманта пополудничаю! — и двинулся в город. Пора в караван напрашиваться, поглядеть, так ли уж тоскливо в соседних становищах. А то ни пиров, ни базаров — живут, точно им мозги обручем зелененым стиснули. Можно бы, конечно, и в одиночку рвануть, но лучше все‑таки за спиной оставлять дом, куда можно вернуться без опаски. А то, строфион их задери, в соседних‑то местечках, может, и еще хуже.
Так, голодный и раздосадованный, ввалился к аманту; сразу послышалась перекличка рабов, докладывающих хозяевам о госте, и откуда‑то сверху слетел Завл, восторженный, уже с мечом в руке.
— А отец что, в отлучке?
— В загоне, блёва дрочит, господин–пестун.
— Прикажи еду подать, не завтракал я нонче.
Мальчик вежливо поклонился, хлопнул в ладоши, что‑то скороговоркой велел набежавшим телесам — видно было, что не впервой принимать кого‑то за старшего. Повел Харра наверх, да не в покои с потолочными окнами, где обычно батюшка трапезничал, а прямо на крышу — на огороженной от ветров площадке был расстелен ковер с подушками, расставлены блюда с дымящейся едой. Вина, правда, видно не было. Он собственноручно накинул на гостя застольное полотенце с прорезью для головы, сам уселся напротив и принялся жадно глядеть Харру прямо в рот — видно, с нетерпением ждал, пока тот насытится. Когда Харр откусывал особо лакомый кусок, невольно глотал слюнки.
— Чего сам‑то постишься? — не выдержал рыцарь.
— Тяжко будет с мечом прыгать, господин–пестун.
— И то верно.
Откуда‑то снизу, видно, из проема оружейного двора, слышались короткие вскрики и звон мечей. Как‑то очень уж скромно и степенно явилась Завулонь, поклонившись, высыпала из подола на ковер фрукты, присела за спиной брата, положив ему подбородок на плечо. Вид у обоих был какой‑то заговорщический. Харру почему‑то сразу припомнилось вчерашнее маленькое происшествие на лестнице.
— Ты вроде меня о чем‑то спросить хотел, или нет?
Мальчик слегка повернул голову, скосив глаза на сестру, чей носик посапывал ему прямо в ухо, и решился:
— А правда ли, господин–пестун, что у твоего народа один бог?
— Я ж сказал — значит, правда. Ежели я тебе пестун, то переспрашивать меня негоже.
Мальчик зарделся.
— А с чего это ты моими обычаями интересуешься, а, Завл, амантов сын?
Мальчик еще раз стрельнул рысьим глазом на сестренку и, хватанув ртом воздуху, точно перед нырком, скороговоркой выпалил:
— А скажи, господин–пестун, справедливо это, что наш отец, воин могучий и мудрый, против себя еще двух амантов терпеть должен, а лесовой еще над ним и верх держит? Почему не быть ему единоправителем, да и бог чтоб был один, что всем ведает, от лесного орешка до острия меча амантова? Мы бы с Завкой ему подмогли, и лес, и ручей как‑никак обиходили–полюбили… Почему — нет?