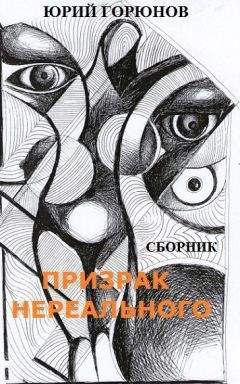Сергей Матвеев - Битва за Смоленск
Вы когда-нибудь пробовали бежать сквозь огонь? Это по-настоящему страшно. Мы неслись словно на крыльях, спеша выскочить из западни, в которую так некстати угодили. При этом старались не поднимать лишнего шума, и потому неслись молча, ощетинившись оружием. Я бежал сразу за Мамаем, и мне было отлично видно, как между горящим полем и лесом остановился и рассыпается в боевой порядок небольшой отряд гандарийцев. Наверное, они были немало удивлены увидеть несущихся прямо на них сквозь огонь смоленских дружинников.
Вот тогда Мамай закричал. Высоко подняв меч, он нацелился прямо в центр построения противника. Мы подхватили клич, и не сбавляя темпа врезались в группу гандарийцев. Без устали работая кинжалом, я краем глаза успевал отмечать, как метко стреляли Агнешка с Макарычем — они обнуляли гандарийцев почти без осечек. Те никак не ожидали подобного напора, да и отряд, судя по всему, попался не из сильнейших — очень скоро мы стали брать над ними верх.
— Одного оставьте! — крикнул Мамай, отбиваясь мечом сразу от двоих гандарийцев.
Я так увлёкся боем, что пропустил один из выпадов соперника, что едва не стоило мне жизни перса — удар явно был нацелен в шею, но попал кинжал, к счастью, в ключицу, пробив стальные колечки кольчуги. Тем не менее, я сразу почувствовал горячую струйку крови, затекающую под рубаху. Ощущение новое и совсем не из приятных. Гнев удесятерил силы, и я буквально прижал врага к стволу дерева, выбив оружие из его рук и приставив к горлу лезвие кинжала. Лишь увидев, как испуганно расширились зрачки гандарийца, и как он судорожно глотнул, коснувшись кадыком острого лезвия, я немного остыл.
— Пошевелишься — обнулю! — каким-то чужим, грубым голосом сообщил я ему, и медленно отвёл кинжал в сторону.
Возможно, обнуление было бы не худшим вариантом для гандарийца, но в этот момент все его внимание было сосредоточено на остром кончике путешествующего рядом с его лицом кинжала, так что он лишь испуганно моргнул и слегка кивнул.
— Пакуйте этого! — я кивнул подбежавшим Ярлу с Кольцем, а сам в изнеможении сел на траву, прислонившись к дереву спиной. Голоса друзей доносились как будто из глубокого колодца, перед глазами шли разноцветные круги.
— Командир, ты ранен, — сказал Ярл, заводя руки гандарийца за спину и затягивая ремнём от штанов.
— Я знаю, — вяло сказал я, чувствуя, как меня неимоверно начинает клонить в сон.
— Ёлки з-зелёные! — воскликнул Кольц, приседая передо мной на колени и стягивая с себя рубаху. — Ему к-кровь надо остановить!
— Что тут у вас? — громко спросил подбежавший Мамай.
— Звеньевого ранило! — с лёгкой паникой в голосе доложил Кольц, одновременно с силой вдавливая мне в плечо свою рубаху.
— Кольчугу ему сними сначала! — приказал Мамай. — Потом рубаху разорви и перевяжи! Быстро! Нам надо уходить!
Уже закрывая глаза, я увидел плюхнувшуюся рядом со мной Агнешку, сразу выхватившую у Кольца рубаху и резким движением кинжала отрезавшую от неё широкую полосу. А потом вокруг потемнело, и я очнулся в кресле у себя дома.
Спалось мне неважно. Снились какие-то ужастики. Из тех, что потом не запоминаются, но оставляют после пробуждения тяжёлое неприятное чувство. Плюс измождённость. Всё это я и чувствовал на следующее утро, когда вставал с постели под бодрый звон будильника. Подавив искушение заглянуть в компьютер, я всё же первым делом решил умыться и позавтракать как человек.
На кухне за столом сидел отец, перед ним стояла пустая тарелка со следами яичницы и чашка с дымящимся кофе. В руках он держал какой-то журнал.
— Ты чего не на работе? — спросил я, проверяя рукой, достаточно ли чайник горяч.
— И тебя с добрым утром, — ответил отец. — Сегодня воскресенье, вообще-то, тебе не сообщили?
Ёлки-палки, действительно воскресенье. Все дни уже с этой игрой смешались. Так значит, не спроста гандарийцы вчера вечером напали — им сегодня к Смоленску подступать, нужно максимальное число игроков он-лайн собрать. А это проще всего сделать именно в выходной день, когда и студенты, и школьники, и даже инженеры с продавцами в придачу отдыхают.
— А чего тогда не спишь? — снова спросил я.
— Выспался, — сообщил отец. — Делами хочу заняться. А вот ты чего вскочил? Только не говори, что ты и сегодня с ушами в компьютере весь день провести собираешься.
— Заскочу, конечно. Ненадолго, — соврал я, заливая растворимый кофе кипятком.
— Ты в курсе, что меня мать просила как-то повлиять на тебя, чтобы от компьютерной зависимости избавить?
— Так у меня же работа с компьютерами связана, — удивился я.
— Знаем мы твою работу, — спокойно сказал отец. — Как не заглянешь к тебе в комнату — сидишь в кресле в полной отключке, только руки и ноги подёргиваются. Между прочим, выглядит пугающе. Даже для меня. Про мать я вообще молчу.
— Ну, я же в виртуале! — намазывая хлеб маслом и накладывая поверх клубничное варенье, возразил я.
— Ты так говоришь, будто уйти в виртуал — это всё равно, что в футбол во дворе пойти поиграть.
— А что, нет? — удивился я.
— От футбола зависимость не возникает, — поучительным тоном сказал отец. — А от виртуала в два счёта.
— От футбола ещё какая зависимость, — сказал я. — Посмотри, вон, на наших олигархов. Каждый себе хочет по команде купить.
— Так это бизнес!
— Ну, и виртуал это бизнес, — согласился я. — Для кого-то.
— Ну вот, — подхватил отец. — И этот кто-то на тебе зарабатывает.
Мне почему-то сразу вспомнилось, как примерно то же самое говорил Мамай в таверне в самый первый мой вечер в Нереалии.
— Что вы все так из-за этого беспокоитесь! Все на ком-то зарабатывают, — сказал я.
— Неправда, — возразил отец. — Я вот на тебе не зарабатываю. И на друзьях тоже. И вообще, до девяносто первого года у нас в стране эксплуатация была запрещена.
— Так она и сейчас запрещена.
— Ну да, теперь мы свободны, — невесело улыбнулся отец. — Каждый волен жить, как получится. Волен умереть с голоду, жить на улице и так далее. А если хочешь регулярно кушать — должен продаться в рабство какой-нибудь фирме, желательно покрупнее и помощнее, с хорошими условиями и социальным пакетом, чтобы рабство было максимально комфортным.
Я осторожно сделал глоток. Хороший кофе, крепкий. Но очень горячий.
— Скучаешь по советским временам? — уточнил я.
— Дело не во временах, — взмахнул журналом отец. — Раньше думали, как сделать жизнь народу лучше. Идея была, понимаешь? Общая идея, и каждый чувствовал свою причастность к чему-то огромному.
— Ну да, комсомольские стройки и всё такое, — сказал я.
— И это тоже, — кивнул отец. — Люди знали — мы живём в своей стране, мы здесь — хозяева, если строим что-то — это для будущих поколений. Мы верили в это, трудились ради этой цели, потому что разделяли её всем сердцем. Ты был человек и личность, но при этом чувствовал себя частью огромного общества, народа.
— Ну а сейчас?
— А сейчас каждый сам по себе, — грустно сказал отец. — Есть бизнес, он нанимает людей, увеличивает свой капитал. Частный. Всё распродано, и за каждый шаг нужно платить. А отношение к тебе везде как к чужому. Как бы поживиться за твой счёт. Эгоизм победил. Каждый думает максимум на уровне своей семьи — о личном благосостоянии.
— И чем же это плохо? — я посмотрел на часы и решил, что успею сделать ещё бутербродик и заодно с отцом подольше пообщаюсь.
— А тем это плохо, что уничтожает все настоящие, высшие межчеловеческие ценности, такие как дружба, взаимовыручка, милосердие, любовь, наконец! Вместо этого, во главе угла деньги — только деньги. Нас превращают в кассовые аппараты.
— Слушай, тебе бы в политику пойти, — сказал я. — Так убеждённо всё говоришь.
Отец замолчал, снова открыл журнал, посмотрел в него несколько мгновений, затем раздражённо бросил его на стол.
— Не верю в честную политику! Это такой же бизнес, как и всё остальное.
— Неправильно рассуждаешь, — не согласился я. — Если все будут на кухнях разговоры вести, и никто палец о палец не ударит, чтобы как раз честной политикой заняться — так ничего и не изменится.
— А что теперь можно изменить? Когда всё уже поделено, система работает на обогащение, и никто не захочет ни граммом поступиться, чтобы сделать общество хоть чуточку более справедливым.
— Вот чего я не понимаю, — сказал я, ставя пустую чашку в раковину, — так это то, почему взрослые разумные люди так любят красиво говорить, но ничего при этом не хотят делать и менять.
— А ты хочешь что-то делать? — спросил отец. — Менять?
— А меня всё устраивает, — пожал плечами я.
— Ты просто не знал ничего другого.
— Я просто принимаю наш мир и существующие обстоятельства, как данность. Чего зря языками болтать — только время тратить.
— Это то же самое безделье и нежелание напрягаться, — подытожил отец.