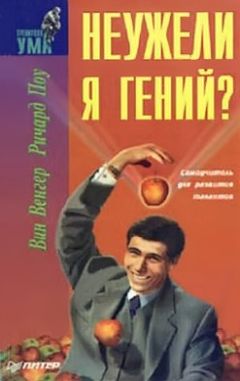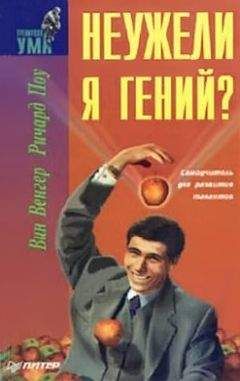Грин Грин - Кетополис - Киты и броненосцы
Патрульный поднял пресс-папье и подал Баклавскому сложенный листок.
Густое сплетение сиамских букв.
"Лук — два мешка.
Яблоки — семь ведер.
Китов пусть выторгует Май.
Мука — четыре килограмма.
Яйца — три десятка.
Покупать? Дайте знать, я позвоню".
— Еще по одной? — спросил патрульный, видя, как нахмурился старший инспектор.
Двадцать семь — это на Ручье. Что происходит? Как Чанга туда занесло? Его ли это рука? Баклавский узнал бы почерк помощника, но не по-сиамски.
"Покупать", — написал он на чистом листе "пневмы" и сунул его в чистую капсулу. За китов… За китов… Таких китов можно было сторговать за пятерку! Предусмотрительный ход — скрыть не последнюю, а третью цифру. Без нее — десять адресов на выбор в разных кварталах. Чтобы проверить все, понадобилось бы поднять на ноги всю полицию Пуэбло-Сиама. Двадцать семь — пятьсот сорок три.
Подписав капсулу, Баклавский рывком рычага отправил ее в путь. Потянулись долгие минуты. Выпили еще по одной. Потом зазвонил телефон.
— Побудьте пока в патрульной, — сказал Баклавский и снял трубку.
Крупные фигурные снежинки прилетали из сковавшей мир темноты и разбивались о стекло как птицы.
— Он стрелял в меня, шеф, — сказал Чанг. — Стрелял в своего. У нас так не принято.
— Почему ты не отвез его в Новый порт? — спросил Баклавский.
— Он вопит как свинья даже от пустячной боли. Мне удобнее разговаривать с ним без посторонних.
— Чанг, — голос сорвался, пришлось откашляться. — Ты старший патрульный Досмотровой службы. Ты не можешь…
— Не беспокойтесь, шеф, мне не приходится применять силу. Почти. Шакал очень разговорчив.
— Чанг, — Баклавский постарался, чтобы его голос звучал убедительно. — Нужно…
— Я обещал заботиться о вас как об отце. А шакал продал вас за карточный долг и обещание вашего кресла, — голос Чанга состоял из презрения и ярости. — Мы еще не закончили с ним беседу.
Баклавский промолчал.
— Билет в "Ла Гвардиа" Савиш получил еще вчера, — продолжил Чанг, — от бывшего моряка по имени Макс. Мелкая сошка. Ночует в Слободе — в "Амбре" сдаются комнаты всякому сброду. Про его девчонку шакалу ничего не известно. И что хуже всего, Савиш не знает, кто его купил. Обычный незнакомец — после покера в "Золотом Плавнике". Купил как шлюху. Уже давно, шеф. А два дня назад сообщил, что пора отрабатывать. И Савишу даже не стыдно. Он говорит, вам всё равно не помочь.
— Чанг, — сказал Баклавский, — привези его в порт и посади под замок. Не натвори глупостей, я прошу тебя.
— И еще, шеф… — Сиамец будто не слышал обращенных к нему слов. — Я очень беспокоюсь за брата. Если Май не вернется в порт, я перережу шакалу горло.
И повесил трубку.
Баклавский дрожащими руками открутил колпачок с капсулы "пневмы", которую, пока разговаривал с Чангом, едва не сложил пополам. Из картонного цилиндра на стол выпал обрывок шпагата. Сначала это была петля, затянутая хитрым узлом, а потом петлю разрезали, и получился "икс", две веревки, связанные крест-накрест.
Снова задребезжал телефон, и Баклавский сорвал трубку:
— Я приказываю тебе…
— Нормальные люди сейчас видят сны в объятиях красивых женщин, — Мейер был благодушен как сытый питон. — И только такие придурки как мы с тобой в четыре утра пытаются делать вид, что работают.
— Привет, сыщик, — Баклавский даже помотал головой, так неожиданен был звонок Мейера. — Уже пора выезжать на допрос?
— На опознание, — ответил тот. — Ты хорошо знаешь Слободу?
— В меру.
— Есть хороший шанс поболтать с твоим потерявшимся морячком. Спроси меня, как я его нашел!
— Как ты его нашел, великий сыщик Мейер?
Где-то на том конце провода старый друг откинулся на спинку стула, и, наверное, даже положил ноги на стол.
— Я научу вас, сыщик-любитель Баклавский! Если девушка закатывает глаза, а вы принимаете ее за слепую, это действительно говорит о таланте. Но она не мошенница. Она — актриса. За последние годы в городе шло всего лишь два спектакля, где на сцене появлялась бы плетельщица. Два! В одной и той же второсортной студии. И две! Всего лишь две актриски научились прятать глаза, чтобы было похоже. Я спросил себя: Мейер, а нет ли у какой-нибудь из них покровителя из криминальных кругов? Поискал, поспрашивал… И поехал на Восточный бульвар с визитом вежливости к талантливой, но очень невезучей красотке, которая чуть не отправила на тот свет милого моему сердцу однокашника.
— Ты нашел ее?
— Я нашел ее, допросил ее, и сейчас увезу в управление, чтобы завтра ты мог без спешки составить заявление о покушении. Ее дружка зовут Макс, всё правильно. Скользкий тип, из слободских. Держит девчонку на коротком поводке, практически в рабынях. Немудрено — денег за спектакли в такой дыре даже на тухлую китятину не хватит. Он сказал — она сделала. А вот обо всем остальном надо спрашивать у Макса. Они вышли из театра задолго до финала. Макс переоделся прямо в экипаже, что-то взял и убежал, а ее отправил домой. По описанию одежды, по времени, да по всему — это он. Дождался конца спектакля, и когда плетельщица с телохранителем сели в свой экипаж, бросил им в окно бомбу. Сам в суматохе скрылся. Я и подумал — вдруг моему другу Баклавскому не спится, и он согласится по холодку прокатиться до Слободы?
Обрывок шпагата. Еще недавно он был веревочной серьгой в ухе Макса. Моряк выкинул его, а кто-то подобрал и послал Баклавскому по почте: смотри, инспектор! Думай, инспектор! Только почта чуть-чуть запоздала…
— А как зовут девушку? Ты у нее?
— Да, я же сказал, — несколько обескураженно ответил Мейер, — на Восточном бульваре, в мансарде доходного дома Гнездник. А зовут твою пассию Ниной. Нина Заречная. Подходящее имя для актрисы.
— Не увози ее. Лучше поедем за Максом.
— Что ты сказал?
— Я не буду писать заявление, старик. Зачем мне девчонка, если она играла вслепую? Слепую — вслепую, смешно. Нам нужен Макс — и тот, кто за ним.
Мейер был недоволен.
— Дело твое, Ежи. По взрыву она всего лишь свидетель. Но я бы прихватил ее для верности… Погоди, дай соображу… Ежи, ты на нее глаз положил, так?
Баклавский хотел возмутиться, но, чтобы закончить разговор, пробурчал:
— Хочешь, считай, что так.
— Вкус хороший, мозгов нет, — констатировал Мейер. — Годы его не меняют! За тобой заехать?
В горле пересохло.
— Встретимся на месте. Скажи, где.
— Не вздумай соваться в "Амбру". За постоялым двором — площадь Приголуба. От нее начинается Кабацкая улица, там полно ночных забегаловок. Встреча — у ближайшей к Приголубе. Нам понадобится минут сорок, приедешь раньше — выпей горячей канеллы. До встречи!
Насколько реже мы теперь встречаемся с людьми, подумал Баклавский. Голос летит по проводам, и решаются дела, меняются судьбы, ломаются жизни. А когда-нибудь Вивисектор научится вживлять телефон прямо в голову, и мы навсегда окажемся связаны в кошмарную мыслящую сеть…
Повесив трубку, Баклавский посмотрел на левую руку. Даже просто взгляд на узелки стянувшего запястье узора вызывал тошноту. Попытался оттянуть браслет чуть в сторону, и тотчас будто шнур продернули через дырку в сердце. Схватил воздух ртом, скорчился, переждал… Отпустило.
Рука покраснела и саднила. Баклавский спрятал подарок плетельщицы под манжету, и снова потянулся к трубке. Продиктовал номер.
Стыдно будет. Потом. Если это "потом" будет.
— Я нашел морячка. Через двадцать минут — на площади Приголуба, — сказал он в телефонную пустоту. — Поторопимся.
Фантазия у Баклавского работала не хуже, чем в детстве. Изнуренное сознание превращало ветхие строения Мертвого порта то в неприступные горы, то в ряды книжных корешков с библиотечной полки. Едва выпавший снег разрисовал дороги картами неизведанных земель. Снежинки легче пуха невесомо устилали мокрую брусчатку, и вдруг рафинадно темнели и превращались в воду.
Иногда Баклавский чувствовал, что на него смотрят, зло и оценивающе: что с "крота" взять, будет ли сопротивляться, не опасен ли. Может, и не было там никого. Но когда от этих царапающих взглядов из темных арок и полуоткрытых ворот становилось невмоготу, извлеченный из кармана револьвер демонстрировал незримым недругам, что его владелец — неподходящий объект для знакомства.
То шел, то бежал. Чаще бежал. Кривая дорога уводила от порта вверх, к Слободе. Раскочегаривать мобиль получилось бы еще дольше, а Баклавский спешил как никогда в жизни.
А фантазия рисовала ему отчаяние и унижение лжеплетельщицы Нины Заречной. Надежды юности, слепую уверенность в своем таланте, пренебрежение первыми неудачами. Ажиотаж любительских премьер, сумасбродство богемных салонов, робость и возбуждение от того, что рядом, бок о бок, набирают силу будущие Тушинские и Шаляпины.