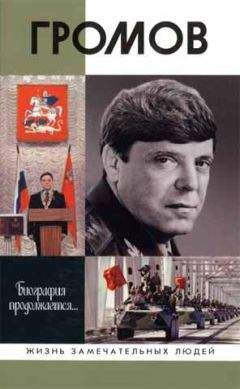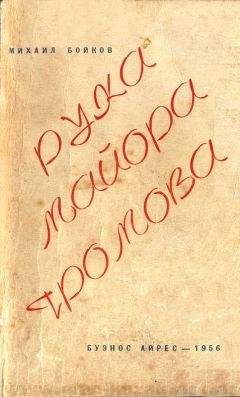Михаил Елизаров - Библиотекарь
Помню, с каким волнением я поднимался по широкой лестнице, опираясь рукой о прохладу перил, выпукло-белую, словно вымерший костяной остов. Уже на ступенях я услышал гармошку или аккордеон – для баяна переборы были слишком визгливы. Тренькала гитара, доносилось неразборчивое хоровое пение, мешаясь с заливистыми подголосками смеха.
– Разгулялись, – одобрила звуки Маша. Тем не менее, мы прошли мимо резонирующей голосами и музыкой столовой. Маша открыла соседнюю дверь.
– Это раздаточная, – пояснила она. – Полина Васильевна так поручила. Хочет остальным сюрприз устроить. Я пойду, скажу ей потихоньку, что привела тебя.
Гул праздника находился слева за тонкой неощутимой перегородкой с широким квадратным окном, неплотно прикрытым оцинкованной ставней. В стене зашумел внутренностями встроенный шкаф.
– О, Анкудинова десерт прислала… – озабоченно сказала Маша, открыла створки, вытащила четыре противня и расположила на столе. В комнате приятно запахло яблочной выпечкой.
– Ты подожди несколько минут, я скоро, – пообещала Маша и убежала.
Я прильнул в щели между ставней и раздаточным окном.
Вытянутую, как вагон, столовую освещали елочные гирлянды. Россыпь крошечных светляков, густо покрывавшая потолок и стены, мерцала, точно глубоководный океанский планктон. Перед моими глазами двигались черные силуэты. Они звякали бутылками, исторгали взрывы шакальего хохота. Совсем рядом по тарелке длинно царапнул нож, и от этого фарфорового скрипа мне свело оскоминой скулу. Между расставленными подковой столами шло гулянье. Я видел толстуху Клаву с посаженным на колени аккордеоном. Она играла «Синий платочек», а вокруг стульев водили настороженный хоровод с полдюжины старух. Во главе застольной подковы в окружении широкоплечей свиты находилась Полина Васильевна Горн. Подперев рукой подбородок, она внимательно слушала Резникову, чуть морщась от назойливого шума.
Прежде чем я разгадал смысл забавы, Клава неожиданно оборвала мотив, сплющив ревущие мехи. Старухи с визгом кинулись занимать стулья. Какой-то не досталось места, она беспомощно потыкалась и отступилась, разведя руками.
– Гусева вылетела! Слушаем про Гусеву! – радостно верещали более проворные, топоча ногами. Они до комичного напоминали расшалившихся на перемене девочек, и даже обращались друг к другу по фамилиям.
– Что читать про этого фанта? – громко спросила у общества Клава.
Гусева пригрозила подругам:
– Если возьмете из третьей недели, я обижусь…
Победительницы посовещались и объявили: – Восьмой день!
Клава взяла протянутую стопку бумаг, отыскала нужный лист, откашлялась и огласила:
– Письмо от Гусевой старосте Максаковой… «Женечка пришли мне гребешок я очень прошу тебя гребешок а то Цеханская взяла мой гребешок и потеряла и теперь у меня нет гребешка а новый гребешок не дали так что мне гребешок ну что тебе еще писать чувствую себя хорошо только мне гребешок утром не могла причесаться так что обязательно мне гребешок ну что тебе еще писать у меня все хорошо Поля уехала отчетов не присылайте но очень тебя прошу гребешок ну что тебе еще писать приезжай в гости и мне гребешок не забудь а больше писать нечего еще Вере Юрьевне поклон и будь добра мне гребешок…»
Гусева отволокла в сторону лишний стул. Клава начала «На сопках Маньчжурии», и хоровод вокруг стульев возобновился. Клава нарочно играла томительно долго, так, что и старухи, и зрители вскоре начали изнывать от волнения. Кто-то даже крикнул: «Да что ж ты издеваешься, Клавка!» – как аккордеон резко умолк, и старухи кинулись к стульям. Выбыла Кашманова. Этой присудили стенографию пятнадцатого дня безумия.
Кашманова обиженно ахнула, всплеснула руками.
До того выбывшая из игры Гусева с легким злорадством зачитала:
«Избыточно пользуется губной помадой, тушью, румянами и пудрой. Выщипала брови. Не расстается с флаконом лака, постоянно подкрашивает ногти. Украшается бусами, брошками, клипсами. Кокетничает с воображаемым кавалером, обнажается. Стенографистку и нянек принимает за своих соперниц. В эти минуты становится агрессивна. Сексуально расторможена. Постоянно говорит о половых отношениях, открыто мастурбирует. Хочет поехать на Кавказ „вкусить винограда и радостей“. Полагает, что ей двадцать лет и она должна выйти замуж. С одинаковой интонацией повторяет: „И тогда я, стоя на коленях, сделала ему по-французски…“«.
Столовая сотрясалась от смеха.
– Вот дуры! – защищалась Кашманова, изображая невозмутимость. – И что тут такого?! Нормальное женское поведение! А вы все дуры! Особенно Аксак и Емцева!
Две старухи на стульях довольно захихикали.
Клава начала «Осенний вальс». Я увидел Машу. Обойдя сдвинутые столы, она шла прямиком к Горн. Маша наклонилась к уху начальницы и что-то сообщила.
Клава сменила тактику измора, и аккордеон рявкнул через короткий промежуток времени. Опростоволосилась старуха по фамилии Цеханская.
– Стенография, девятый день, – с выражением зачитала Кашманова. – «Забыла, как называются пальцы на руках. Указательный палец называет „большим“, а остальные – „которые поменьше“. При виде шприца говорит: „О, хрусталь понесли!“. Если ей возражают, что это шприц, удивленно переспрашивает: „Шприц? А тогда что такое хрусталь?“. Уверяет, что иностранная разведка наложила ей на язык свои слова. Она думает „кофта“, а произносится „солнце“. Жалуется, что из глаз читают мысли, особенно днем. Просит запереть ее в темную комнату. Неопрятна мочой и калом…».
Несколько столов под нестройные гитарные аккорды затянули песню:
Жили-были не тужили четверо друзей!
Баб снимали, водку пили, пиздили хачей!
– Клавка! – радостно всполошились старухи. – Утрем молодежи нос! Давай про вечера на Оби!
– Поля! – собеседница Горн стукнула кулаком по столу. – Ты не понимаешь! Если правильно читать, то никакого освещения не нужно. Свет образуется сам из чтеца!
– Резникова! – повысила голос Горн. – Это бездоказательно!
В куплет о похождениях четырех друзей, как грузовик, врезались пропетые бойким хором строчки:
Хороши вечера на Оби, —
Ты, мой миленький, мне подсоби:
Я люблю танцевать да плясать —
Научись на гармошке играть!
Баб снимал Иван Иваныч!
Приводил Иван Степаныч!
Раздевал Иван Кузьмич! —
выкрикивала хриплым речитативом запевала.
Столы подхватили: «А всех ебал Иван Фомич!», – но смех потонул в «Вечерах на Оби».
Буду петь да тебя целовать!
Научись на гармошке играть!…
Посреди этой музыкальной вакханалии в раздаточную вернулась Маша:
– Идем, – сказала она. – Тебя ждут.
Я переживал мучительное состояние школьника-новичка, выставленного на позор всеобщего обозрения перед чужим и враждебным классом. С нашим приходом в столовой воцарилась болотная тишина. Завитые, вычурно накрашенные и разодетые старухи, плечистые охранницы со звериными челюстями, испитыми глазами, татуированными руками – все это опасное сборище настороженно изучало меня.
– Вот, коллеги, – сказала после долгой паузы Горн. – Алексей Мохов… О котором… я вам говорила… Правда похож… на Лизавету Макаровну?
– Ага, – хмуро усмехнулась Резникова. – Как свинья на коня…
Старухи заулыбались. Интрига забавляла их.
– Поля, – хрупкая Цеханская пригладила стриженные модными завитками виски, – сходство с Лизой очень относительное. – Воробьиная голова «мамки» сидела на такой же чуткой птичьей шее.
– Бледненький он какой-то, – насмешливо сказала Кашманова. Засалившийся крепкий ее нос смахивал на желтый лакированный каблук, щеки покрывала родимая крошка. – Не подходит нам…
– Откормим, – хмыкнула Горн.
– Это ведь не так-то просто внуком у нас быть, – обратилась ко мне краснощекая, с пунцово напомаженным ртом старуха, в цветастой юбке и зеленой вязаной кофте. – Не всякий справится.
– Он парень способный, – сказала Горн. – Освоит.
– Проверить его надо, – выступила худая старуха с распущенными по платью пышными фиолетовыми сединами. – Проэкзаменовать.
– Дело говоришь, Харитонова, – поддержала Гусева. – Возьмем с испытательным сроком…
Было очевидно, что никто из четырнадцати не воспринимал всерьез легенду о новообретенном внуке. Я не заметил впрочем в старухах и открытой агрессии. Меня беспокоили охранницы. Они как-то характерно, по-мужицки, потирали руки, глумливо переглядывались, скаля нержавеющие коронки, грубой пятерней почесывали промежность раздвинутых ватных штанин, заправленных в кирзовые сапоги.
Даже стоящая рядом Маша почуяла что-то неладное и сказала медленно сатанеющим бабищам:
– Тихо, тихо. Без глупостей…
– Что-то вы, девушки… не приветливые, – мелко вздохнула Горн. – Уйдем мы от вас…