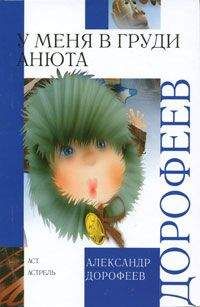Андрей Лях - Нечаянные встречи Синельникова
Вот зависла, и ближе к центру зажегся вроде как прожектор, в землю уперлась колонна молочно-белого света. Из нее вышли двое и скорым шагом направились ко мне. Идти им было метров семьдесят, и за это время я на удивление много успел передумать. Роста они были каждый метра за два, сложены как боги, все с ног до головы залиты в какую-то черную блестящую пленку. Лиц нет. То есть что-то есть, будто бы маска, точно такая же черная как и все, без всякого перехода.
Первое, что пришло в голову: какой я там ни есть — а я так себе, ничего, с этими двумя лбами мне не совладать. Они шли так целеустремленно, что с первого взгляда все было ясно: я сын агрессивной планеты, и агрессию мы тут все чуем за версту.
Мысль вторая была такой: а не бог ли с ним со всем? Елены больше нет. Мне незачем больше быть умным, храбрым, оригинальным или еще каким. Пусть себе эти волкодавы сейчас возьмут меня под белы руки и везут куда хотят.
Третья мысль была совсем уж неопределенная. Вдруг Елена с того света что-то да видит? Да нет, даже не то, а просто, если я сейчас сдамся без боя, это, может, подтвердит, что тогда, в то шотландское лето она была права... Всеславин на моем месте точно или драпанул бы без оглядки, или сидел, открыв рот. Слишком хорошо его в детстве кормили.
Тут они подошли, и один взялся за ручку двери. Ладно. Нет, Елена, никакой апостол Петр не посмеет сказать тебе, что Володя Синельников сплоховал в свой смертный час. Я толкнул дверцу, выскочил, и что было сил заехал в морду тому, что слева. Чернота у меня под костяшками подалась и чмокнула, потом мир погрузился во мрак и, как зажигание, я отключился.
Сколько витал в эмпиреях, не знаю. Когда пришел в себя, вижу — влип. Лежу кверху брюхом на каком-то постаменте в чем мать родила, не чувствую ни рук, ни ног, ни вообще чего, и даже вроде вижу себя откуда-то сверху.
Возле стоял старичок в белой водолазке — лысый, на висках -- седые патлы, как крылья, кончик носа сплющен, как у удава, взгляд ехидный. Давешний черный лось возвышается невдалеке. Второго не видно.
— Так, — сказал старичок, поднял брови и улыбнулся. — Добрый вечер. Полагаю, дорогой Хаген, что вы готовы были встретить кого угодно, только не меня. Увы, увы. Это я.
Прошелся взад-вперед, сцепив руки за спиной.
— Не стану уверять, дорогой Хаген, будто от нашего теперешнего разговора что-то изменится в вашей судьбе. Нет. Как ни грустно, ничего не изменится. Но поскольку вам в некотором роде уже все равно, думается, вы не откажетесь ответить на несколько моих вопросов. Что? Ах, да, простите старика.
Он махнул рукой в сторону, и ко мне вернулось ощущение, что у меня снова есть гортань, язык и прочее. Но все ниже связок продолжало отсутствовать. Ото всей этой чертовщины я настолько обалдел, что, прокашлявшись, только и нашелся что сказать:
— Ты, я вижу, вредный дед. Он радостно захихикал:
— Да-да-да, именно вредный. Но у нас нет причин затягивать...
Он не успел закончить, а я не успел собраться с мыслями, как к нему подошел чернявый долдон и наклонился к уху. Оба тотчас же вышли — куда, не разобрал. Скоро, впрочем, вернулись, и дедок сызнова было начал:
— Обстановка, любезный Хаген...
Но едва я открыл рот, чтобы сказать: «Какой я тебе, к черту, Хаген, старый хрыч», как где-то загудело. Оба — опрометью — вон. Через секунду раздался такой вопль или, скажем, вой, что хоть у кого волосы встали бы дыбом, оборвался, и наступила полная тишина. Одновременно кончилось мое парение в пространстве — вернулось ощущение бренной плоти, я пошевелил пальцами, помассировал бицепс и свесил ноги со своего катафалка. Н-да. Старичок-то мрачный.
Хорошо. Осмотримся. Вполне нормальная комната, правда, мебели никакой, потолок светится. На стене — черная завитушка, напротив — валяется узел. Что-то мне знакомое. Спрыгнул на пол, подошел, развернул. Мои джинсы. Остальное, по-видимому, рассеялось в вакууме. Оделся.
Пойдем дальше. Потрогал завитушку на стене. Что за черт — рука проскочила куда-то насквозь. Но никто не откусил. Пролез целиком.
Оказалось, дверь.
Я стоял в бесконечном, круглом по сечению коридоре на красном губчатом покрытии. Направо эта труба уходила в кривую бездонную перспективу, налево... Налево, в двух шагах от меня, под прямым углом друг к другу, лежали оба мои приятеля.
Недалеко ушли. Старик примостился вдоль, склонив голову к плечу, и стеклянным взглядом смотрел в просторы. Долговязый устроился поперек. Ноги его заехали на покатую стену.
Картина. Я какой-никакой, но врач. Здесь все ясно. Я подергал себя за губу. Хаген. Кто такой Хаген? Идиотская ситуация.
Неизвестно, что бы я придумал, но тут объявился третий персонаж. Я обернулся. Позади стояла женщина невероятной красоты и смотрела на меня глазами, полными ужаса.
Я почувствовал усталость. Что чересчур, то чересчур. Мне захотелось прилечь. Она была высокая шатенка с умопомрачительной фигурой; на ней был светлый комбинезон, сидевший как перчатка, так что если речь шла только о приличиях, без него вполне можно было обойтись; на длинной шее — серебряная цепочка.
Ее трясло от страха. Она попробовала улыбнуться, но на полулыбке повернула обратно, поправила серьгу, похожую на шестисотрублевую чешскую люстру — самоцветы полыхнули разноцветным жаром — прикоснулась к волосам, и наконец отважилась сказать:
— Здравствуйте, Хаген.
Так. Снова-здорово. Переплет. Что отвечать?
— Ты кто такая?
— Элизабет Шелтон.
Элизабет Шелтон. Кто бы мог подумать. Мысли вертелись как белки в колесе — на большой скорости и на одном месте. Вот бы сказать сейчас: «Я такой-то страшный Хаген, всем недоволен, везите меня немедля обратно и положите, где взяли». Нет, не пойдет. Годы мои не те. Господи, ну и дребедень.
— Элизабет, где тут у вас центральный пост, пульт управления и вообще ходовая рубка? Покажи-ка мне.
Едва я все это сказал, как меня окатило ледяной волной — а вдруг мы уже на какой-нибудь Дельте Ориона, откуда обратной дороги нет? Но Элизабет кивнула с большим облегчением, потому что затянувшаяся пауза явно поставила ее на грань инсульта, и мы двинулись по коридорам, ходам-переходам, мимо всяких чудес, и пришли в этот центральный зал.
Да, это без обмана. Здоровенный зал — что это у них все тут какое-то громадное — действительно с пультами, наподобие микшерских, по стенам сплошь экраны, штук, наверное, сто, и такие стеклянные стоечки с отражениями. Стоят кресла и прочее, на всех экранах одно и то же — как будто синий мешок с разорванным горлом, поверх — оранжевая сетка. И ни души кругом. Спрашиваю:
— Где люди? Она отвечает:
— Здесь никого нет. Только Химмельсдорф и двое киборгов.
— А с ними что?
— Одного ты убил там, на Земле, а Химмельсдорфа и второго... Я ввела их в резонанс... Я боялась что что-нибудь сделают с тобой, Хаген.
Я сел в ближайшее кресло. Меня замутило. Значит, это называется ввести в резонанс. Хаген. Элизабет. Три трупа. Куда я опять ввязался?
— Елизавета, сядь. Сядь, я говорю. Не знаю, что за дьявольщина здесь у вас творится, но я никакой не Хаген, я русский врач Владимир Синельников; можешь ты мне объяснить, что происходит?
Она снова пришла в ужас:
— Не может быть, Химмельсдорф не мог ошибиться!
— Все бывает. Кто такой этот ваш Хаген и почему из-за него столько шума?
— Хаген — член Совета Протекторатов, а я его жена...
— Хороша жена, своих не узнаешь.
— Я никогда его не видела. Меня создали и вырастили специально для него. Мы должны были встретиться через полгода, я стажировалась на Земле...
— Ну и как тебе Земля?
Но она не дослушала и вновь спросила с гаснущими остатками надежды:
— Ты правда не консул? Ты не можешь связаться со Стимфалом?
— Не знаю, не пробовал.
Тут нервы у нее окончательно сдали, и началась настоящая истерика. Я похлопал ее по щекам и предложил успокоиться, но нет, какое там.
— Боже, какая я идиотка! Зачем я все это сделала!
— Ну как же — спасла жизнь хорошему человеку.
— Нас все равно убьют! Нас сожгут через полчаса! Ты же мужчина, ну сделай что-нибудь, я не хочу умирать.
Она даже ударила меня кулаками по плечам, но я пока ничего не мог понять.
— Они разрежут корабль лазерным лучом, и нас просто разорвет... Уж лучше я сама, — она диковато покосилась на экраны и снова обернулась ко мне.— Ты здесь и вовсе ни при чем — не бойся, мучаться не придется, я тебя дезактивирую.
Она уставилась на меня своими глазищами цвета болотных трав и началась чертовщина. Мне стало неуютно и даже холодно, и неожиданно я вновь увидел себя со стороны — как сижу в кресле в одних джинсах, а напротив — эта красавица. Из меня, из того, сидящего, выпучивались и выкручивались какие-то струи — из головы, из боков, даже из спины — и с загибом утекали в нее, в Элизабет. Похоже было, что она на расстоянии высасывает меня.