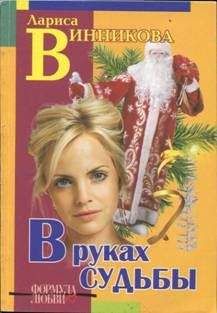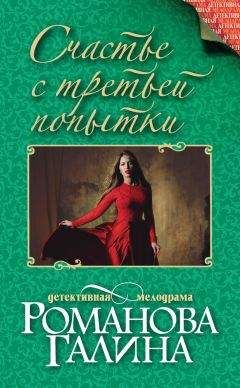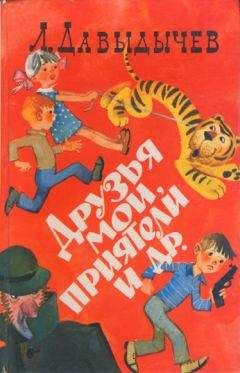Лариса Малмыгина - Неприкаянная душа
— Вы дезинфицировали воду? — спросила я у одной из служащих элитной бани.
— Что, что? — сказала пораженная служащая.
Не хватало еще подцепить сифилис, гонорею или хламидиоз. Впрочем, чему быть, того не миновать!
Через часок мне подали красивую белую тунику и, оказавшиеся как раз впору, кожаные сандалии.
— Цезарь зовет тебя, — придирчиво осматривая плоды труда своих многочисленных подчиненных, провозгласила Эвтибида.
По-видимому, она осталась вполне довольна, так как весело улыбнулась и протянула мне пухлую руку, за которую вымытая и начищенная до блеска «красивая штучка» уцепилась обеими ладошками в надежде на то, что жизнь на Капри окажется не так уж плоха.
Мы снова пошли по длинным коридорам в ту залу, где я впервые увидела старого сладострастника.
Он сидел в мраморном кресле и слушал тишину. Стол, заваленный яствами, стоял перед ним нетронутый, а я так хотела есть. Проследив голодный взгляд новой рабыни, цезарь знаком пригласил ее к столу, наблюдая из-под опущенных ресниц здоровый аппетит вновь прибывшей в его угрюмое царство.
— Как звать тебя, дитя мое? — лаская взглядом мой аппетит, поинтересовался гомик.
— Алиса Смирнова, — выдавило из себя «дитя», проглатывая кусок вареной телятины, щедро посыпанный пряными специями.
— Я не знаю твоей страны, Алиса, — продолжал пытать молчаливую гостью скучающий император. — Не бойся немощного старика, он не принесет тебе зла.
— Рабство — уже зло, — пробормотала я, запивая еду разбавленным вином.
— А если ты станешь моим другом? — заискивающе молвил голубой. — Я так одинок.
— Любовницей, вы хотели сказать? — вздрогнула я и чуть не опрокинула золотой кубок.
— Мне безразличны женщины, деточка, — покачал головой цезарь. — Знаю, что я — извращенец, но я врачую свою дряхлость постоянным общением со свежестью юношеского тела, дающего мне гармонию.
— А несчастным детям, которых вы принуждаете к интимной близости, нравятся ваши домогательства? — неожиданно для самой себя выкрикнула я.
— Кто ты, Алиса? — опешил правитель Рима. — Почему осмелилась разговаривать таким тоном с самим цезарем?
— Я, если хотите, ваш друг, — покрываясь холодным потом, пролепетала я.
— Только друг может сказать правду, — согласился со мной Тиберий, — все остальные лебезят передо мной, но я-то знаю цену их фальшивым комплиментам. Один Сенека вечно перечит мне.
— Великий философ? — удивилась я. — Я, кажется, читала про него.
— В каких свитках написано про моего непокорного слугу? — молниеносно пронзая меня цепким взглядом из-под сросшихся густых кустистых бровей, ахнул венценосный собеседник. — Впрочем, советника самого цезаря должны знать во всем мире!
Я вздохнула и подумала о Мадиме. Где он?
— Я люблю греческую культуру, — сменил гнев на милость старец, — люблю стихи, музыку, скульптуры. Хочешь осмотреть мою библиотеку?
Я кивнула, и мы поднялись со своих мест, чтобы под прикрытием стражи неторопливо побрести во дворец, находящийся у самого моря.
В саду нежно пели фонтаны, мраморные нимфы расчесывали длинные волосы, а сатиры угодливо плясали вокруг надменных каменных красавиц. Греческие статуи сторожили покой старого отшельника, не нашедшего красоты в людях и уединившегося от их лживости и предательства.
В кабинете, уставленном стеллажами, император остановился, вынул первый попавшийся свиток и прочитал имя автора: Солон. Отбросив его в сторону, быстро схватил другой труд. Это был Феогнид. Повертев в руках Феогнида, цезарь нервно запустил его в потолок. За ним последовал гипсовый бюст Эсхила, от обиды рассыпавшийся на мелкие черепки.
— Я не хотел власти, — пожаловался отшельник, ошеломленно созерцая учиненный погром, — я был хорошим солдатом и сделал великой державой свою страну; я был хорошим мужем и отцом маленького Друза. Любимую жену у меня отнял отчим, заставив жениться на потаскушке, сына отравил единственный друг, готовившийся к перевороту в Риме. Мать, с помощью той же отравительницы, расчистила мне дорогу к трону, от которого я не посмел отказаться.
Бедный, бедный старик, оставшийся в гордом одиночестве среди холодных сокровищ и всеобщего неискреннего поклонения! Мне, чужой и доселе неизвестной, он раскрывает душу, как близкому, родному человеку!
— Я всегда любил искусства и философию, — поморщился несчастный, сжимая руками седые виски, — но стал полновластным хозяином империи. Я обожаю Рим и ненавижу римлян. Теперь пресытившиеся патриции мечтают о республике, упрекая меня в разврате и жестокости. Лицемеры, не они ли сами — воплощение всех грехов человеческих? Я стар, немощен, и я постоянно живу в тревоге, боясь покушения на свою ненужную никому жизнь.
— У вас нет друзей? — касаясь ладонью его трясущейся руки, ласково спросила я.
— Только трое, но и им я не верю до конца, девочка, — судорожно вздохнул затворник.
Печальный разговор двух неприкаянных душ неожиданно прервало осторожное покашливание чернокожего раба, будто выросшего из-под земли:
— Наследник императора Гай Цезарь спрашивает: нельзя ли ему войти, чтобы испросить прощения? — торжественно известил он.
Вздрогнув, отшельник нервно кивнул. Калигула, ибо это был он, стремительно вбежал в кабинет и опустился возле Тиберия на колени:
— Я — ничтожество, — заскулил тот, кто познакомил меня с цезарем. — Мой проступок достоин наказания, но почему мы, люди, должны быть лучше богов, призывающих нас к добродетели, если сами они хитростью и лицемерием устраивают свои судьбы? Разве Зевс не женился на собственной сестре Гере, низвергнув отца и внука, дабы занять олимпийский престол? Разве не требуют небесные властители жертвенной крови, чтобы в великие праздники насытиться ею?
— Боги всегда правы, — сердито прервал оратора старец.
— Квинт Курион встретился с Макроном, чтобы договориться с ним о победе над тобой, — пряча улыбку в уголках рта, заявил внучатый племянник.
— Префект претория не может предать меня: он обязан мне всем, что имеет! — стукнул кулаком по столу Тиберий.
— Почему десять лет ты держишь меня взаперти, отстраняешь от государственных дел? — сдвинул к переносице брови молодой человек. — Почему считаешь деньги в моем кармане, несмотря на то, что это мои деньги и мое наследство?
— Потому, что ты недостойно ведешь себя, Гай, — моментально сник великий отшельник. — Переодетый женщиной, шляешься по притонам, пьешь и развратничаешь.
Перстень, знак императорского величия, блеснул на крючковатом пальце старого императора, отлично понимающего, что инициативный преемник постарается как можно быстрее приблизить время своей очереди на опостылевший трон. Калигула, облизывая пересохшие губы, впился загоревшимися глазами в этот бездушный каменный блеск. Затем, словно спохватившись, что выдает свои истинные намерения, рывком схватил жилистую длань деда и попытался смачно поцеловать.
— Не надо лобызать то, что ненавидишь, — брезгливо отдернул руку властитель Рима. — Учись самому себе отдавать отчет в собственных действиях, так как это необходимо будущему кесарю.
Легко поднявшись с колен, Калигула удалился, бросив в мою сторону мимолетный ненавидящий взгляд.
— Бойся его, детка, — закрывая уставшие глаза, прошептал несчастный затворник. — Моя мать Ливия была умной женщиной, она говорила, что вероломства, трусости и распущенности Гая хватит на десяток подлецов.
За разговорами мы просидели до вечера. Тиберий рассказывал мне о детских годах, о битвах, в которых он завоевал для Рима половину мира, об обожаемой жене Випсании, родившей ему сына и умершей от горя, потому что ее любимый по наущению своего хитрого отчима ушел к другой. Он поведал мне о предателе Сеяне, считавшемся лучшим другом, который во имя богатства лишил отца единственного дитяти.
Нам принесли ужин, зажгли светильники, развесили их по стенам. Но, найдя во мне внимательную слушательницу, старец не мог наговориться.
— А знаете ли вы, что по вашему монаршему приказу казнили сына Божьего? — используя небольшую паузу в его воспоминаниях, осторожно осведомилась я.
— Сына какого бога? — давясь слюной, оторопел древний итальянский император.
— Бог только один, и сын у него один-единственный, как у вас ваш Друз, — вспоминая Прекрасного Принца, с нежностью прошептала я.
— Расскажи, — приказал Тиберий.
И я поведала обо всем, что видела своими глазами.
Старец слушал, напряженно всматриваясь в лицо странной рассказчицы.
— Если Иисус — Мессия, почему не смог защитить свою жизнь? — вытирая платочком слезящиеся глаза, воскликнул он. — Разве великий Зевс позволил бы убить себя?
— Тот, кто сметает со своего пути отца и внука, чтобы завоевать олимпийский трон, не позволит распять себя, чтобы смертью искупить грехи человеческие, — язвительно усмехнулась я. — Тот, кто требует жертвенной крови, не способен на жертву сам.