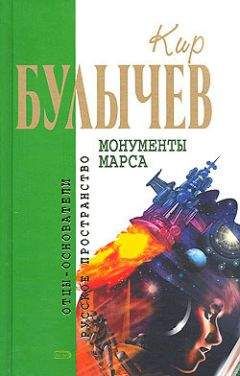Кир Булычев - Встреча тиранов (сборник)
— Почему? — Брежнев ткнул карандашом в грудь Кузнецову. Заинтересовался.
— Там головы полетят. Все равно как если бы мы Сталина возродили. — Кузнецов помнил времена культа личности.
Он осекся от ощущения вакуума. Тишина наступила в комнате такая, словно все перестали дышать.
Молчали целую минуту. Смотрели на Брежнева.
— Нетактичность вы допустили, товарищ Кузнецов, — произнес наконец Брежнев. — Не ожидали мы ее от вас, пожилого человека. Ни на минуту коммунист не должен забывать, что у нас есть великий покойный вождь Владимир Ильич Ленин.
— Я же не призываю, — сказал Кузнецов, и его щеки пошли красными старческими пятнами. — Я хотел предложить именно Ильича.
— Если, — сказал Черненко, — все это не провокация.
— Вот именно, — поддержал его Брежнев. — А чья провокация, вы установили?
— Мало шансов, — сказал Андропов. — Хотя в данной ситуации я бы предпочел, чтобы это была провокация.
— Не понял, — вздохнул Брежнев.
— Если провокация, то кончится ничем. Если это не провокация, а, скажем, провокация в галактическом масштабе, то мы обязаны взять это событие под контроль и обеспечить, чтобы народ единогласно пожелал именно того кандидата, которого изберет Политбюро. И мы должны принять соответствующее решение. — Голос Андропова звучал тихо, но твердо и угрожающе. Он стал похож на Берию, и, хотя сходство было только внешним, Брежнев внутренне поежился.
— Какое решение? — услышал Брежнев собственный глухой, запинающийся голос и понял, что голос выдал его: не ему задавать вопросы. Ему принимать решения.
— Но вы же сами указали! — удивился Андропов.
— У человечества был только один гений, — сказал Черненко. — И Владимир Ильич нам нужен, правильно, Леонид Ильич?
Но Брежнев молчал. Никак не ответил Черненко, ни словом, ни жестом. Потому что на него снизошло понимание… Это была провокация. Это была гигантская, вселенская, может, даже галактическая провокация, направленная как лично против него, Генерального секретаря, так и против Советской державы в целом.
Устинов, не угадавший еще хода мыслей Генерального, подлил масла в огонь.
— По низовым коллективам, — сказал он, — и в некоторых воинских частях стихийно проходят собрания под лозунгом «Ленин с нами! Ленин вечно жив!». Предлагаю в этой обстановке поддержать начинание масс.
Раздались аплодисменты.
Брежнев молча поднялся и пошел к выходу.
От двери навстречу метнулись охранник и врач. Думали, что Генеральному потребуется реанимация. Но тот прошел мимо.
Меня отпустили домой под утро. Я возражал, говорил, что метро еще не ходит.
— На такси у вас найдется, — сказал мне майор, который снимал последний допрос. Он знал о содержимом моего бумажника.
Такси я не поймал. Шел пешком. Рассвет был ясным, но холодным. Последние листья лежали на мостовой.
Город жил странно. Словно началась Олимпиада. На каждом углу стояли милиционеры. По двое, по трое.
Возле райкома партии толклись, мерзли, переминались с ноги на ногу несколько пенсионеров унылого, но целеустремленного вида. Цепь милиционеров отделяла их от дверей райкома.
Когда я проходил мимо, один из пенсионеров в глухом черном пиджаке, увешанном значками дивизионных и армейских юбилеев, поднял костлявый кулак и тихонько воскликнул:
— Ленин вечно жив!
Милиционеры молчали.
Разумеется, понял я, возрождать будем Ильича.
У памятника Пушкину на Пушкинской площади, несмотря на ранний час, бабушки укладывали венок из живых астр.
Тогда-то, проникая в сознание каждому, снова возник голос Кабины. Текст был идентичен вчерашнему. Старушки распрямились, и одна громко крикнула:
— До встречи, наш гений!
Милиционер стал вежливо подталкивать бабушек к входу в метро.
Пожалуй, подумал я, стоило взять полсотни у профессора. Все равно его дело труба.
Политбюро собралось с утра.
Щелоков доложил о внутренней обстановке. Затем выслушали доклад Комитета государственной безопасности. Обстановка в стране была в целом спокойной, на местах ждали решений центра. Даже требовали решений, опасались упустить инициативу. В некоторых областях, предугадывая решение Политбюро, были приняты резолюции «Возвратим Ильича народу». Брежнев молчал. Затем Громыко зачитал телеграмму от левого крыла Лихтенштейнской партии труда, в которой, в частности, говорилось: «Надеемся, дорогой Леонид Ильич, увидеть Вас на трибуне Мавзолея в день парада в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции рядом с Владимиром Ильичем Лениным, продолжателем дела которого Вы являетесь».
Брежнев открыл рот. Все ждали, что он скажет. Брежнев спросил:
— «Вы» там с большой буквы?
— Здесь все с большой буквы, Леонид Ильич, — ответил Черненко, опередив Громыко.
Еще помолчали. Надо было что-то предпринимать. Положение было куда более сложным, чем казалось на первый взгляд. Первое решение, столь единодушно поддержанное вчера, после ночных размышлений оказалось далеко не идеальным.
— Тут товарищи из Люксембурга… — начал Брежнев.
— Из Лихтенштейна, — нетактично поправил его Громыко, и Брежнев подумал, что Громыко слишком очевидно прочит себя в наследники. Но Андропов не пустит. Нет, не пустит. Брежнев, рассуждая так, не имел в виду собственную смерть — она была за пределами разумного. Но это не мешало рассуждать о наследнике.
— Тут товарищи из Люксембурга, — продолжал Брежнев, — выставляют меня на Мавзолей рядом с Ильичем. Нетактично это.
Андропов старался не улыбнуться. Но воображение предательски и явственно рисовало картинку — двое рядом. Один в кепке, другой в шляпе. Эта картинка была недопустима.
— А кто же будет в Мавзолее лежать? — спросил вдруг Кунаев. Вопрос был диким, именно такого можно было ждать от представителя среднеазиатской республики.
— В Мавзолее, — сказал тихо и твердо Андропов, который уже все просчитал и понял, — будет лежать Владимир Ильич Ленин.
— А на трибуне? — не понял Кунаев.
— На трибуне будет Леонид Ильич и, если обстоятельства не изменятся, вы тоже.
Поднялся одобрительный шумок. Все поняли, что Ильича возрождать не время. Черненко хотел сказать небольшую речь по этому поводу, но Кузнецов тихо положил руку ему на локоть, и Черненко осекся. Любые лишние слова в этой ситуации грозили бедой.
— Требуется выдвинуть альтернативный лозунг, — сказал Андропов. — По моим каналам сообщили, что китайское руководство будет стараться оживить Сунь Ятсена.
— Знаю товарища Сунь Ятсена, — сказал Брежнев миролюбиво. Самое страшное было позади. Он снова был среди единомышленников, помощников и соратников. — Он много сделал для китайской революции. Это классик китайской революции.
— Классик? — произнес вслух Долгих. — Именно классик!
— Только не Сталин! — воскликнул Устинов. — Я с ним работал.
— Позаботьтесь, пожалуйста, — сказал ему Брежнев, — чтобы в Грузии все было тихо. Там у вас какой округ? Закавказский?
— Товарищи выполнят свой долг, — сказал Устинов.
Вечером перед программой «Время» диктор, не скрывая торжественной дрожи и придыхания в голосе, сообщил о решении Политбюро и Совета Министров: «Завтра в двенадцать ноль-ноль по московскому времени каждый гражданин Советского Союза выполнит свой партийный и человеческий долг. Каждый пожелает, чтобы после долгого могильного сна очнулся и приступил к исполнению своих обязанностей перед прогрессивным человечеством ведущий классик марксизма-ленинизма Карл Маркс».
В этот момент, когда прозвучало это сообщение, я сидел у Элеоноры.
Элла готовила кофе. Красные брючки так туго и нагло обхватывали ее ягодицы, что я вдруг понял, почему она всегда находится в состоянии бравого сексуального возбуждения.
— Ты слышишь? — закричал я. — Они выбрали Маркса.
— Слышу, — сказала Элла спокойно. — Не глухая.
— Но почему не Ленина? Почему? Народ их не поймет.
— Зачем им Ленин? — искренне удивилась Элла. — Что они с ним будут делать? Отчет ему представят, как проорали его светлые идеи?
— Элла, заткнись! — сказал я. — Ты ничего не понимаешь в политике.
— А ты в жизни. Я бы на их месте сейчас же закопала его так глубоко, чтобы ни один пришелец не докопался.
— А Маркс?
— Тебе надо объяснять? Маркс даже по-русски не сечет. Они ему Институт марксизма-ленинизма отдадут, дачу в Барвихе. Ему сколько лет было, когда он помер?
— Много.
— Вот пускай и доживает на персоналке. А еще лучше — передадут в ГДР. Пускай там ликуют.
Элла была права, но тяжелое чувство несправедливости не оставляло меня. Все было не так, не ладно.
— Значит, в Америке будет Линкольн, у китайцев Мао, а нам немецкого классика?