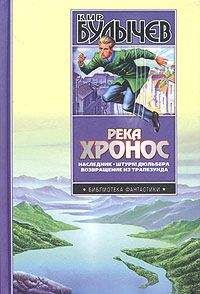Кир Булычев - Осечка-67
Зазвонил первый телефон, и Грушев поднял трубку, кинул в нее: «Сейчас!» и отбросил, как змею. Колобок подобрал осиротевшую трубку.
— Это райком? — спросил дрожащий женский голос.
— Общественный инструктор Колобок слушает.
— Послушайте, товарищ общественный инструктор, — пропел женский голос. — Синяя полоса сверху или снизу?
— Какая полоса?
— На русском национальном флаге. Я Смирницкая, из детского сада номер тридцать. Мы делаем кокарды для буржуазии.
— Сейчас. Может, товарищ Грушев вам поможет.
Колобок передал трубку матросу. Черт знает что, подумал он, не знаю, какой должен быть флаг. Привык как-то, что красный.
— Минуточку, — сказал Грушев трубке и продолжал кричать в другую: — Так ты, Коган, не крути, ты эти штучки брось! Твой Бунд и одной комнаткой обойдется. Что я тебе, Таврический дворец отдам? Вы же активного участия не принимали. Что Маркс? При чем тут Маркс? Знаешь что, кончится мероприятие, я тебя к партответственности привлеку. Да-да, за демагогию. Маркс нацпринадлежности не имеет. Он великий учитель рабочего класса, и ты это учти. И вообще, я тебе сейчас нескольких украинских товарищей подкину, а то ты, я вижу, желаешь в свой Бунд одних евреев набрать. Не хочешь хохлов? Тогда принимай армян. Они тоже брюнеты.
— Девушка! — схватил Грушев другую трубку. — Чего у вас? Синий, думаешь? А ты энциклопедию посмотри. Большую. Нет, говоришь? Так позвони историкам. Что? Знаешь, Смирницкая, это принципиального значения не имеет. Кто разберется — что сверху, что снизу? В телевизоре все равно серым будет.
— Ты еще здесь, Колобок? — сказал Грушев, бросая трубку. — Пошли в коридор, отдышусь.
Они вышли в коридор. Джентльмены в наклеенных бородах бросились было за секретарем да потеряли его в дыму.
— Сюда, — сказал Грушев. — А то настигнут.
Они прошли в мужской туалет. Грушев распахнул форточку, и в нее сразу влетел мокрый осенний ветер. За замазанным до половины белой краской окном висело серое грустное небо.
— Жду инфаркта, — вздохнул Грушев. Поправил бескозырку. — Ох, сорвем мероприятие, опозоримся. Китай знаешь как на нас смотрит? Внимательно… Только и ждет осечки, чтобы развернуть кампанию травли. А как с людьми работать? Слышал, что этот Коган говорит? Маркс, говорит, был еврей, а участвовал в революциях. Ну, я ему еще покажу.
— У нас тоже нелегко, — сказал Колобок. — Ты же знаешь.
— Да что там. Вы ж юнкера?
— И юнкера, и женский батальон смерти. Девчата наши.
— Ну и сидите. Вот кировцам и «Электросиле» придется под дождем через весь город идти. А вам что?
— Я к тебе пришел с вопросом. Может, не вовремя, но хочу все-таки спросить.
— Валяй, — сказал Грушев, печально глядя в окно.
— Ты скажи, милиция на площади будет?
— Когда?
— Да во время штурма.
— А почему это тебя волнует?
— Понимаешь, посоветовались мы тут с товарищами. Есть опасность, что могут пострадать культурные ценности. Возьмут Зимний…
— Ты это не надо. Ты за кого наш питерский пролетариат принимаешь?
— Я не про пролетариат. Нас сейчас никто не слышит. Случайные люди затесаться могут. Выпьют по дороге. Ну и дадут прикладом по витрине. Я ж о государственном забочусь.
— М-да, — сказал Грушев. — Есть и такая опасность. Но небольшая.
— Так будет милиция? Может, ее в Эрмитаж поставить?
— Понимаешь, какая история получается. Милицию мы тоже мобилизуем. Форму им полицейскую выдаем. Городовыми и околоточными станут. ОРУД в жандармы пойдет. Людей-то не хватает.
— Всех?
— Что всех?
— Всех милиционеров в жандармы? Грушев присел на подоконник.
— Я тебе конфиденциально говорю. Меня самого это беспокоит, — сказал он наконец. Вынул пластиковый пакет, набитый табаком, кусок газеты и неумело свернул самокрутку.
— Мы бы, конечно, — продолжал он, — могли в жандармов еще кого одеть, но тут два соображения было. Во-первых, у штатского опыта нет, а во-вторых, хочется, чтобы милиционера даже в такой праздничный день отличить можно было. Ведь у народа к форме уважение имеется. Ясно?
— А КГБ мобилизовать?
— Знаешь, куда они меня послали?
— Тебя, Коммунистическую партию?
— А у них указание — фиксировать, кто себя в городе будет неправильно вести. Для последующих мер.
— Ну тогда хоть жандармский наряд в Эрмитаж направь. На всякий случай.
— Это сделаем. Пожалуй, еще пожарную машину подкинем. Только вам придется их оборудование к системе горячего водоснабжения подключить. Если в случае чего поливать народ придется, так чтобы не простужались. А то неприятностей не оберешься.
— Пожарников все-таки не стоит, — сказал на это Колобок. — Они такую грязь в залах разведут, что хуже восставшего народа.
— Добро. Это как хочешь. С директором посоветуйся. Значит, пропускай их за баррикаду и ни шагу дальше. В случае чего звони прямо в обком. Меня-то не будет. Я на «Авроре» буду, залп совершать. Доверили.
— Ну я пошел.
— Давай. И без паники. Народ, повторяю, у нас сознательный. Хороший народ!
3
Керенский стоял перед зеркалом и пытался надвинуть короткий, торчком, парик таким образом, чтобы скрыть редеющие курчавые волосы на висках. Волосы были темнее парика и тугими завитками обрамляли халтурное произведение ленфильмовских парикмахеров. Керенский с грустью подумал о том, что придется быть сдержаннее в движениях. Он сложил руки на груди. Похоже.
По коридору медленно шли два министра. Керенский не знал их в лицо, но подумал, что по комплекции они должны быть Милюковым и Гучковым. Он помнил их фамилии по учебнику истории.
С министрами шел Розенталь, администратор театра Ленсовета. Он заведовал труппой совета министров.
— Товарищ Яманидзе, — сказал он Керенскому, — познакомьтесь. Эти товарищи будут работать с вами.
— Седов, — представился первый.
— Сульженицкий, — представился второй.
— Конкретных ролей товарищи не получили. Ждем списка совета министров, — сказал Розенталь. — Как пришлют из музея Революции, распределим по внешним данным.
— Где нам пока ждать? — спросил Керенский-Яманидзе.
— Посидите в вестибюле.
— Мы лучше в буфет спустимся, — возразил Седов. — Познакомиться надо. Как-никак с завтрашнего дня будем руководить страной.
— Только чтобы без излишеств, — предупредил Розенталь. — К восемнадцати ноль-ноль быть как стеклышки. Проведем освоение декораций.
Министры спустились в буфет. Буфетчица не узнала Керенского. Это Керенскому не понравилось. Он достал из кармана роль, напечатанную на плохой машинке, и уселся за столик, ожидая, пока Седов с Сульженицким сообразят насчет питания.
— Граждане свободной России! — бормотал Яманидзе, стараясь придать голосу интеллигентность. — Сегодня решается судьба свободы и демократии! — Роль Керенскому нравилась.
В буфет забежал Розенталь и представил министрам царского адмирала.
— Из райкома, — сказал он. — Третий секретарь. Замминистра обороны. Будет с вами в Эрмитаже. Так что прошу любить и жаловать.
— Это можно, — пропел Сульженицкий. — Мы с вами, господин адмирал, в одном лагере.
— Меня вообще-то надо называть вашим превосходительством, но для вас я пока Иван Сидорович, — строго сказал адмирал.
— Иван Сидорович, — спросил Седов, возвратившийся на минутку от стойки, — два рубля в советской валюте найдется? За победу социалистической революции надо выпить.
Адмирал откинул полу шинели и вытащил пластиковый бумажник.
— Гоните рубль сдачи, эксплуататор, — сказал он и улыбнулся доброй, усталой улыбкой.
Седов дал рубль сдачи.
Присели. Адмирал разливал коньяк и рассказывал о том, как командовал ротой на Втором Белорусском. Черные орлы на его эполетах мерно шевелились и, казалось, взмахивали пышными крыльями.
— Граждане свободной России! — кричал Керенский, немного захмелев. Парик сбился набок, и он уже совсем мало походил на премьера Временного правительства. — Родина в опасности!
Адмирал укоризненно качал головой и негромко повторял:
— В случае чего — билет на стол. Понимаешь, на стол.
— А я тебя сгною. И на погоны не посмотрю! — грозил Керенский. — У меня, мать твою, верные казаки! У меня в обкоме рука!
Министры смущались и обильно закусывали частиком в томате. У них еще не было фамилий и портфелей, и это ставило их в ложное положение.
Прибежал Розенталь.
— Ах! — сказал он. — Я это отлично предполагал. А у меня еще вся Государственная Дума на шее висит. Всех одень, обуй в импортную обувь.
Розенталь быстро опрокинул рюмку коньяка и повторил, убегая:
— Чтобы к восемнадцати ни в одном глазу.
— Ни-ни, — сказал Керенский.
Адмирал тихо поднялся и ушел писать докладную на Керенского. Он писал ее непосредственно на имя контрольной комиссии и цитировал Керенского на память.
К восемнадцати Керенский крепко подружился со своими министрами. Они обнялись и дружно пели «Боже, царя храни». Слов они не знали, но все равно получалось красиво.

![Галина - [email protected] - Пациент](/uploads/posts/books/no-image.jpg)